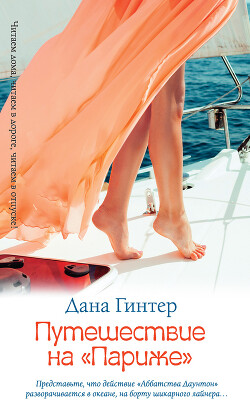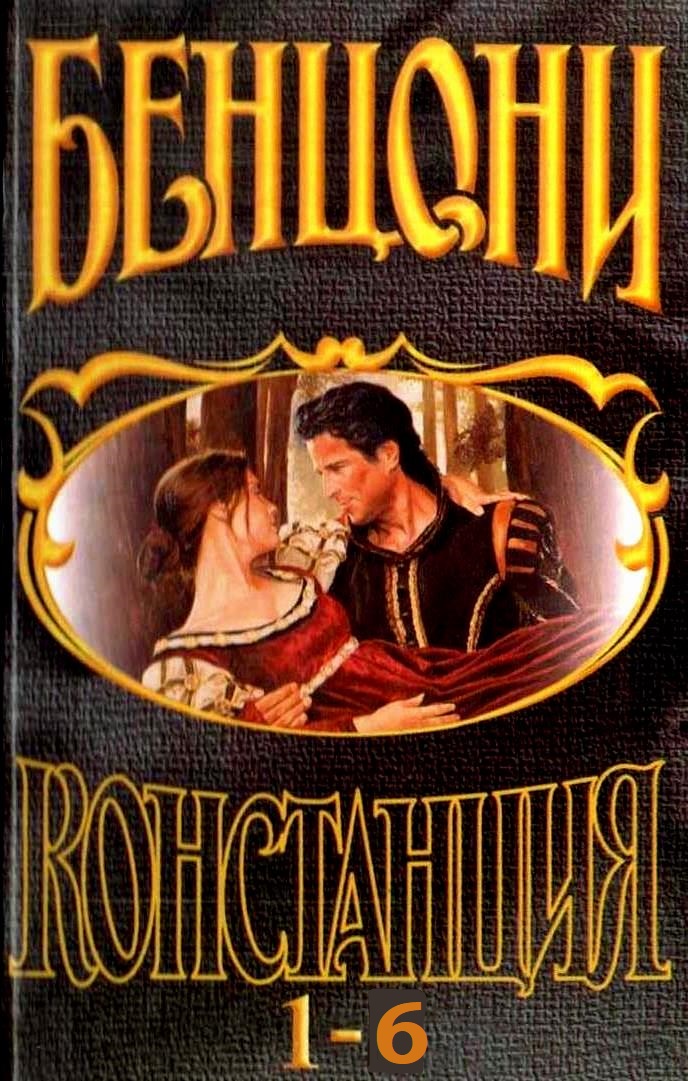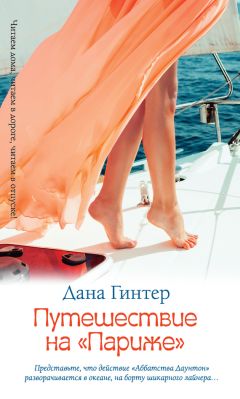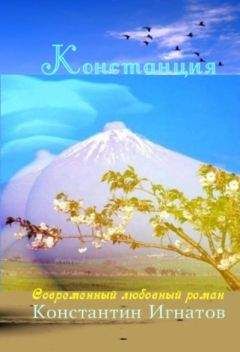Ее звали Камилла Райт Синклер. Когда я переехала в Париж, я снова стала пользоваться девичьей фамилией «Синклер». Так как у меня не было детей, мне вовсе ни к чему было сохранять фамилию мужа, и я заново присвоила себе фамилию отца-сенатора, моей грозной бабки, а прежде и мою собственную. Теперь же в пятьдесят – именно столько было бабушке, когда я была маленькой, – я, похоже, начинала заимствовать ее характер. Подобно бабке Синклер я становилась злой, бестактной, высокомерной и своенравной.
Я сквозь слезы посмотрела на Чарлза и с отчаянием прошептала: «Так оно и есть?»
Он посмотрел на меня с непомерной досадой.
– Вера, неужели ты всерьез предполагаешь, что моя родственная душа, что моя главная в жизни единомышленница – мегера? Разве ты старая злая карга? – Он сурово посмотрел на меня. – Что же в таком случае можно сказать обо мне?
Я фыркнула, рассмеялась сквозь слезы и, перепачкав ему куртку, крепко его обняла. Чарлз отстранился, достал носовой платок и, вытирая куртку, произнес:
– Тогда вот что! Судя по моим часам, твой день рождения еще не прошел, – так же, кстати, как и сезон устриц! Ну-ка, милая, доставай пальто!
У Веры на глаза навернулись слезы. Листая страницы, пестрящие рисунками модной одежды, эзотерическими каракулями, и глядя на торопливо набросанный, но весьма точный портрет своей бабки, Вера вспомнила тот самый день. У нее не было никаких сомнений, что предсказания поэта не сбылись только благодаря ее дружбе с Чарлзом; он спас ее, и только благодаря ему она не стала желчной старухой. Они тридцать лет были вместе, и что с того, что он не в силах видеть, как она умирает? Все это какая-то бессмыслица. Вера вздохнула и отложила дневник.
Что ж, подумалось ей, по крайней мере ее жизнь закончится совсем не так, как жизнь ее бабки. Камилла Синклер оказалась крепким орешком, и ее тело продержалось гораздо дольше, чем душа. В последние годы она ничего не понимала и ничего не помнила. Вере же подобная участь не грозит. У смерти тоже есть свои преимущества.
И тут внимание Веры отвлек палубный стюард: следуя предполуденному ритуалу, он, улыбаясь, предлагал ей чашку бульона и соленые крекеры.
– Мэм, не возражаете подкрепиться? – весело спросил он.
– Ничуть не возражаю, – ответила Вера. – А у вас на подносе случайно нет свежих устриц?
– Нет, устриц нет, мадам, – без всякого удивления откликнулся стюард. – Но если вы хотите, я могу их принести.
И он услужливо поклонился.
– Нет, пожалуй, не стоит, – улыбнулась Вера. – Бульона будет вполне достаточно.
В это время на соседний шезлонг села молодая дама с модной короткой стрижкой.
– Какой славный песик! – Наманикюренными пальцами дама потянулась к собаке с явным намерением погладить ее.
– Доброе утро, – откликнулась Вера, несколько шокированная бесцеремонностью. – Меня зовут миссис Синклер, а это – Биби.
– Очень рада с вами познакомиться! С вами обеими! Я – мисс Корнелия Райс. Из баффальских Райсов. – Дама снова переключила внимание на собаку. – Ну какая же ты лапочка!
– Да, я тоже рада познакомиться, – едва заметно поведя бровью, произнесла Вера и перевела взгляд на море.
Она поднесла чашку с бульоном к губам и слегка на него подула.
Вера вспомнила, что Корнелией звали ее няню. Та Корнелия тайно пробралась с юга на север, и Верина бабка, которая всегда восхищалась храбростью, взяла ее к себе. Вера в дневнике написала длинный рассказ о мисс Корнелии – рассказ о замечательной темнокожей женщине, молчаливо страдавшей от боли. Эта же бледная молодая дама с ее Корнелией не шла ни в какое сравнение.
Когда стареешь, доедая суп, подумала Вера, кажется, будто ты уже все на свете видела, слышала и совершала и ничего нового уже не случится. Царю Соломону, наверное, было примерно столько же лет, сколько сейчас мне, когда он заявил, что нет ничего нового под солнцем. Да, примерно столько же – лет пятьсот. Корнелия, Райс, Баффало. Несколько лет назад эти слова уложились бы у нее в памяти, а потом при случае она бы их вспомнила. Теперь же они сгинут в пустоту, тут же забудутся. Ее памяти они теперь ни к чему.
Вера бросила взгляд на Биби – собака пошевелилась во сне – и погрузилась в дремоту.
* * *
Констанция проснулась и изумленно огляделась. Время шло к полудню, а она все еще была в постели. Этот снотворный порошок, похоже, мощное средство, потягиваясь, подумала она. Кто-то настойчиво стучал в дверь. Неужели уже не в первый раз? Может, от первого стука она и проснулась? Констанция вскочила с кровати.
– Да-да, я иду!
Она надела халат и, посмотревшись в зеркало, открыла дверь: перед ней стоял посыльный. Он выглядывал из-за корзины с фруктами, и с виду ему было лет двенадцать, не больше.
– Мисс Констанция Стоун? – спросил он. – Это вам.
Со вздохом облегчения мальчик протянул ей корзину и мгновенно исчез.
Среди яблок, бананов и апельсинов Констанция обнаружила записку. «Ешьте на здоровье! Серж Шаброн». Констанция расплылась в улыбке. Неужели он так внимателен ко всем своим пациентам? Корабельный доктор весьма обаятелен; ей понравились и его доброжелательная профессиональная манера, и его шутливый тон, когда он провожал Констанцию до каюты.
Он держался совершенно по-европейски, но при этом вежливо и даже мягко – он так отличался от диковатых приятелей Фэйт с их грязными руками и грубыми манерами. И ни капли не похож на ее Джорджа! Вспомнив мужа, Констанция нахмурилась – он всегда только говорит и никогда никого не слушает. Она вынула из корзины яблоко и откусила. Надо будет поблагодарить доктора. Возможно, стоит ему довериться – этот иностранный доктор так далек от их краев – и рассказать о нервных болезнях, передающихся ее родным по женской линии. Кто знает, возможно, он даст ей толковый совет.
Поедая яблоко, Констанция повернулась к комоду и бросила взгляд на портрет дочерей, что стоял возле коробочек с порошками.
– Доброе утро, малышки, – пробормотала она. – Здравствуй, Элизабет, здравствуй, Мэри, здравствуй, Сьюзен, – поприветствовала она каждую.
Констанция нарочно выбрала для своих дочерей простые красивые имена. В этих именах не было заложено никакого скрытого смысла, никакого особого предначертания. Она представила, как в этот чудный июньский день они играют в саду, как вытирают о передники перепачканные цветочной пыльцой руки, с увлечением заглядывают под каждый камень, выискивают повсюду божьих коровок и с решительным видом двигаются вперед. Она еще раз улыбнулась своим девочкам, а потом потянулась за фотографией Джорджа, но передумала и так и оставила ее лежать на комоде – лицом вниз. Каждый раз, когда Констанция думала о возвращении в Вустер, в сердце закрадывалась пустота и на душе становилось не только пусто, но и тошнотворно. Она даже не сообщила родным телеграммой, что возвращается, – не могла подобрать нужных слов.
Констанция доела яблоко, и ей вдруг немедленно захотелось выйти на палубу, посмотреть на гуляющих пассажиров и насладиться чудесным летним днем. Однако она не ринулась туда сломя голову, а тщательно выбрала одежду и накрасила губы. Уложила в небольшую сумку книгу, банан, шифоновый шарф – на случай ветреной погоды, а чтобы избежать солнечных ожогов, водрузила на голову шляпу с широкими полями. У двери она приостановилась, вернулась к дорожному сундуку, порылась в украшениях и выудила подаренный сестрой перстень.
Этот перстень был собственным творением Фэйт: большой прямоугольник, составленный из цветных, покрытых эмалью квадратиков, – длиною в один дюйм окошко из витражного стекла. Этот перстень был задуман как символ примирения. Фэйт подарила его Констанции в последний день ее пребывания в Париже после того, как объявила о том, что в Массачусетс она не вернется. В ту минуту Констанция решила, что никогда его не наденет – такой большой и экстравагантный и совсем не в ее вкусе. Но сегодня ей вдруг захотелось стать другой женщиной. Констанция примерила перстень на один палец, затем на другой, и в конце концов прикрыв им тоненькое золотое обручальное кольцо, надела перстень на безымянный. Вытянув вперед руку, она окинула ее восхищенным взглядом и, прихватив сумку, выпорхнула из каюты.