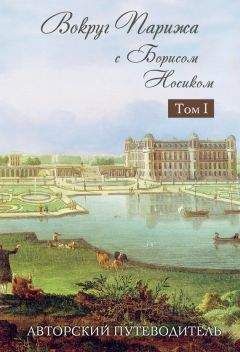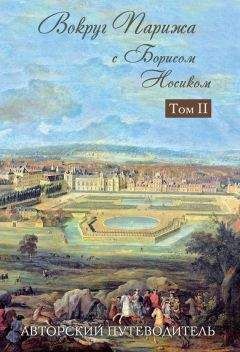В 1939 году Борис Вильде был в научной командировке в Финляндии. Началась война, и ему пришлось вернуться во Францию. Он ушел на войну. «Странная война» длилась недолго. Французские воины заполнили немецкие лагеря военнопленных. В июле 1940 года бригадир Вильде бежал из плена и снова очутился в Париже. Пробил его час. Он всю жизнь мечтал об опасностях, борьбе, приключениях. Война для него не была закончена. Его война только начиналась. При Музее человека возникла крошечная подпольная группа, выпускавшая на институтском гектографе газету «Сопротивление» (резистанс). Слово было найдено. Не стоит думать, что здешнее движение Сопротивления до высадки союзников на французском берегу было сколько-нибудь массовым. Я склонен скорее верить бесстрашному Сент-Экзюпери, чем профессиональным пропагандистам компартии или де Голля. Сент-Экзюпери писал с горечью: «Где была живая Франция? Я верил, что в один прекрасный день она проснется. Но этот образ народной Франции, яростно ненавидящей власть, которая обрекла ее на… перемирие, – ах, какая все это ложь! С приходом немцев это стадо испустило чудовищный вздох облегчения». Сент-Экзюпери признает, что были исключения. Подпольная группа Музея человека была среди этих исключений. Можно отметить, что даже в маленькой этой группе было два молодых русских ученых, два поэта – Борис Вильде и Анатолий Левицкий.
6 июля бежавший из плена Борис Вильде появился в музейном кафе, когда сотрудники завтракали. Он хромал. Старик-директор бросился к нему, обнял его, повторяя: «Мой мальчик, мой дорогой мальчик…»
Через два дня Борис написал на листке отрывного календаря: «Вильде разбирает экспонаты… Сегодня ему исполнилось тридцать два года». Тридцать третью годовщину он отметил в тюрьме. До тридцать четвертой он не дожил…
С июля до марта 1941 года – семь месяцев – длилась его подпольная жизнь, его Сопротивление. С марта до конца жизни, до расстрела, – долгие одиннадцать месяцев – он провел в тюрьме.
Об этих его тайных семи месяцах подполья писали много и не очень внятно. Писали после его смерти. В героическом стиле. Оно и понятно. Подпольная жизнь его, связанная со смертельным риском, была и тайной и героической. Клод Авелин рассказывал:
«Мы познакомились в кафе: он подошел ко мне, широкоплечий, светловолосый, синеглазый, и, отведя меня в сторону, сказал, что он зять моих близких друзей.
– Говорят, вы работаете? – сказал он негромко.
– А вы? – спросил я, и мы оба рассмеялись. С тех пор мы стали друзьями и сотрудниками.
Я не знал человека, который бы лучше владел собой, а ему, с такими глазами, горевшими внутренним пламенем, надо было уметь себя сдерживать. Он походил на северное божество. Он был очень красив…»
Андре Жид писал в своих воспоминаниях о годах оккупации:
«…Я считал, что самые храбрые представители нашей молодежи слепо идут на верную гибель. Их самопожертвование грозило гибелью лучшим из лучших, и Франция была бы еще более обескровлена этими напрасными жертвами, этими ненужными, как мне казалось, потерями…
Потом пришел… один человек и так укрепил… пугливую надежду, что все небо вновь засияло надо мною.
Этого человека звали Борис Вильде, и он несколько месяцев жил в мансарде в моем доме. Не помню, какой счастливый случай свел меня с ним в тридцатые годы. Он тогда искал место, и я горячо рекомендовал его профессору Риве, который возглавлял Музей человека. Риве сразу сумел оценить его блестящие способности. Вильде всегда держался настолько скромно и сдержанно, что я почти ничего о нем не знал и уж никак не мог предугадать, какую героическую роль он будет играть в Сопротивлении. Во всяком случае, наш разговор в тот поздний вечер, когда он явился ко мне, показался мне настолько важным, что я без колебаний решил познакомить его с Пьером Виено, который скрывался у моих соседей.
Я представил их друг другу и ушел, чтобы не мешать им, и они проговорили до самого утра.
Вскоре после этой встречи Вильде был предан и расстрелян. Я с глубоким уважением склоняю голову перед этим благороднейшим человеком. Все, кто его знал, до сих пор преклоняются перед этим мучеником…»
На протяжении семи месяцев Вильде выпускал газету, переходил в свободную зону и переводил других, выполнял различные поручения… У него были друзья и помощники. Больше всех он доверял Гаво, который всех и продал. Почти в каждом подполье бывает предатель…
В те месяцы Борис почти перестал появляться дома, в Фонтенэ. Ирен упрекала его в этом, а может, и еще в чем-то, чего я не знаю. Кажется, еще в том, что он вовремя не уехал из Парижа. Что задержало его тогда? Один из мемуаристов (В. Яновский) утверждает, что у него был в то время роман в балетной студии Ирины Гржебиной. Все может быть: в тайной жизни подпольщиков нередко возникают и тайные любови… Все это потеряло значение в конце марта 1942 года, когда он был арестован на площади Пигаль, оказался в тюремной камере и был обречен на смерть. Последний раз он побывал в Фонтенэ 25 марта.
В тюремной камере он проявил все свое мужество (в котором у него никогда не было недостатка) и написал свои лучшие письма, а через полгода после ареста, в одиночной камере тюрьмы Фрэн, написал и свой «Диалог в тюрьме», «внутренний диалог между двумя «Я», и оба они настоящие». Один из «настоящих» «Я» бесстрашно идет навстречу смерти, другой подробно живописует радости жизни… Но главное в «Диалоге» – размышления об ушедшем, о прожитой жизни, об отношении к людям, о Франции, о любви… Вильде писал, что тюремная камера как темная комната, где проявляется фотопленка. Все становится ясным и отчетливым, проступает главное. Главным из того, что с ним случилось в жизни, неожиданно оказалось его чувство к жене:
«Иногда мне удается полностью отрешиться от того, что было моей жизнью, – от всего, кроме Ирен. Не могу оторваться от нее. И в этом – мера моей любви к ней, она одна еще связывает меня с жизнью… И это чудо. Почему и как я люблю ее?»
И дальше, обращаясь к себе самому:
«…В один прекрасный день в великолепном бастионе твоего равнодушия открылась брешь. Все началось со встречи с твоей будущей женой… ты боролся годами, прежде чем признать поражение. И только недавно ты понял, что это поражение и было победой… с минуты нашей встречи я почувствовал в себе человеческую душу…
Сама суть моего чувства к Ирен коренится в интуиции, в безрассудном, интуитивном представлении другой Ирен, которой она сама не знает, – той, что открывается только мне. Более того: лишь в соприкосновении с ней я сам себе открываюсь до конца. Какая-то взаимная избранность… Она как будто этого не хочет видеть…
Возможно, что любовь к себе и к другим – одно и то же, и любим мы в других людях и даже в животных ту же божественную сущность, которая есть во всем существующем. Эволюция человечества тогда означала бы развитие этой любви, любви вообще…»
В долгие тюремные месяцы в ожидании суда и смерти Борис читает книги по философии, учит языки, пишет письма жене, заклиная ее и родных не жалеть его, не горевать о нем:
«Ни одиночество, ни тишина меня никогда не страшили, а уж безделье мне никак не угрожает: никогда моя внутренняя жизнь не была столь напряженной, интенсивной.
…я испытываю тайную радость, чувствуя, что полностью сохранил всю жажду жизни, что во мне не убывает жизненная сила… что тюрьма не отняла у меня ничего.
И хотя я лишен… внешней… стороны жизни, я все же чувствую, что я безмерно богат. Есть глубокая правда в евангельских словах: «Царство Божие внутри нас».
…именно в иррациональном познании мира человеком я вижу сущность любви… Любовь – состояние души, когда реальное открывается человеку через духовное…
Может быть, я говорю не совсем ясно, но я на это и не претендую. Я рассчитываю на вашу любовь, она поможет вам понять меня, ибо любовь есть понимание и самое большое откровение…
Я ни в чем не отрекаюсь от прошлого… Нет ничего случайного, все предначертано.
Вспомните хотя бы о непредвиденном чуде нашей встречи, нашей любви – как же тут не верить в судьбу?»
Ирен навестила мужа в тюрьме 23 февраля. Когда она ждала его внизу, чтоб попрощаться, в камеру вошел прокурор, чтобы сказать Борису несколько слов по-немецки. Борис спустился вниз и с улыбкой объяснил обеспокоенной жене, что просто хотел еще раз ее поцеловать… Она успокоилась. Но он уже знал, что они не увидятся больше…
…Былой дом Лотов давно уже сломали. Вдова Бориса и много десятилетий спустя продолжала жить на той же улице Вильде, на седьмом этаже многоквартирного дома, храня несколько листков, вырванных им из тетради при их прощании:
«Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз обнять Вас, я уже знал, что это будет сегодня. По правде говоря, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. И я иду на смерть с улыбкой, как на новое приключение, может быть, – с некоторым сожалением, но ни угрызений совести, ни страха во мне нет…