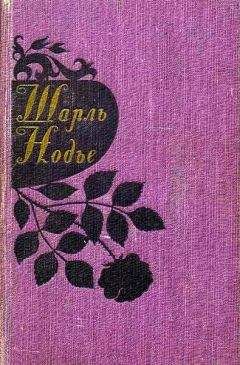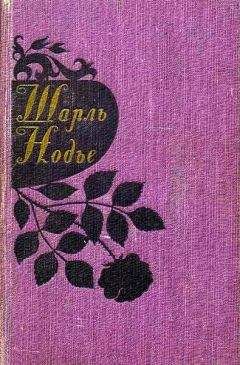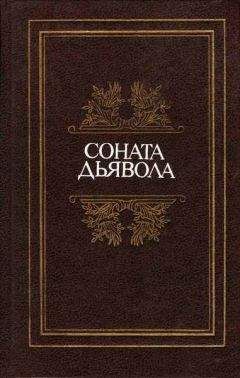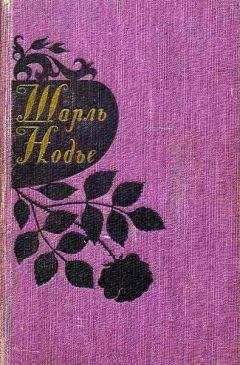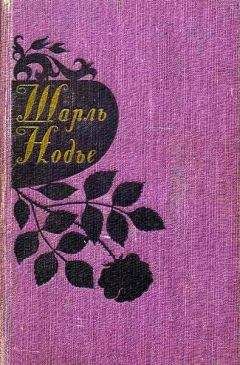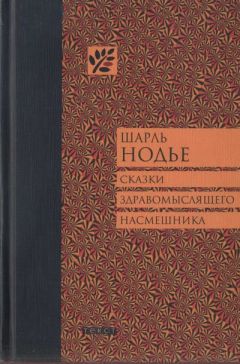Я не был набожен, но я был по-настоящему благочестив, и никогда никакое галантное приключение или любовный каприз не могли бы вывести меня из состояния глубокой душевной взволнованности, овладевающей мною во храме и внушаемой мне домом господним, в особенности когда он пуст и душа пред лицом своего создателя и господина ощущает себя как-то по-особому собранной. К тому же я совсем по-другому, чем поступают в Италии, истолковал это второе приглашение на свидание. Я находился в распоряжении широко разветвленной организации, которая в числе своих самых верных, самых деятельных и самых просвещенных приверженцев могла насчитывать также и женщин и с их помощью подвергать испытанию своего равнодушного или охладевшего члена, используя для этого наиболее подходящие для его возраста и характера способы. К своей чести должен сказать, что я в этом нисколько не сомневался.
Итак, я вошел в придел, не имея другого намерения, как помолиться и предложить в жертву небу свою слепую преданность клятве, которую я дал, руководясь великодушными побуждениями, и которой связал себя с делом борьбы за старинные свободы и старинную веру. Мой взор обежал неширокое помещение. Я был один; пономарь вышел, священник еще не пришел; образ в алтаре сверкал праздничным блеском. Место было величественное, час — торжественный и все вместе взятое — обаятельное зрелище для христианина. Всякий раз когда на меня наваливались несчастья или одиночество возвращало меня самому себе, я опять начинал чувствовать себя таким же искренним христианином, как некогда в объятиях матери, с гордостью одевавшей на меня длинный кафтанчик с серебряным шитьем и вышивкою из красного и синего стекляруса, кафтанчик, предназначенный для моего первого причастия в приходе Сен-Марселен. Покончив с этими воспоминаниями, я снова посмотрел на картину. Святая Гонорина, осужденная умереть голодною смертью в своей мрачной темнице, бледная и дрожащая, с растрепавшимися волосами и с выражением человеческой скорби и божественного смирения во всем облике, протягивала ко мне руки, как бы умоляя о помощи. Мне показалось, что глаза ее смотрят и губы шепчут. О, как была она величава и трогательна!..
Впрочем, в святой Гонорине меня больше всего поразило сходство с Дианой. Обычно, когда любишь, всегда и везде находишь сходство с любимою или любимым, но на этот раз обстоятельства, среди которых я заметил это сходство, заставили меня очень мучительно пережить собственное открытие. К счастью, эта поразительная картина была шедевром Порденоне,[32] и ничем больше.
Мне стало холодно. Я переживал свои впечатления так, как будто все, что я видел, происходило в действительности. Я встал, без всякой видимой цели обошел придел и затем самую церковь, где солнечные лучи уже начинали пробиваться сквозь стекла окон и дрожащими отсветами трепетали на стенах. Никто не подавал признаков жизни ни внутри, ни снаружи. Только мои шаги, гулко отдаваясь на плитах, нарушали молчание сводов. Я искал выход. Стуча зубами от озноба, я прислонился к купели около входа. Я прислушался. Мне показалось, что я слышу, и я действительно услышал какие-то стоны. Я не знал, доносятся они из придела или с церковной паперти. На мгновение мне почудилось, что это святая плачет от голода и страданий. Желая поскорее избавиться от этой тягостной для меня мысли, я поспешно сбежал по ступеням лестницы. Плач и стоны продолжали преследовать меня и на улице, уже освещенной солнцем. Я возвратился к фасаду церкви и обнаружил там моего верного Пука, поспевшего раньше меня, ибо он был сострадательнее людей и всегда рвался туда, откуда слышались жалобы, чтобы принести ласку и утешение. Я уже говорил вам о Пуке.
Я увидел девочку лет тринадцати или четырнадцати, полную очарования юности и прекрасную, как бутон розы: ее глаза обладали бы ни с чем не сравнимою прелестью, если бы не тонули в слезах. Она сидела наверху лестницы, возле той двери, через которую я только что вышел. Ее голова лежала на руке, локоть уперся в колено, волосы были непокрыты, и она горько плакала, не сводя глаз с небольшого, застланного белоснежной салфеткой лотка.
— Бедная Онорина! — всхлипывала она. Услышав приближение моего пса, устремившегося по направлению к ней, она встрепенулась и, остановив на мне взгляд, поспешно стала выкрикивать:
— Купите, сударь, купите мои лазанки! Сделайте почин, выручите маленькую торговку!
Я поднялся на две-три ступени и сел чуть повыше ее.
— Что же вы плачете, малютка, ведь ваша корзина полна до краев и с нею ничего не случилось?
— Ах, сударь, купите, купите мои лазанки! Лучших вы не найдете даже в Венеции!
И, прихорашиваясь, она вытерла кончиками прелестных пальчиков еще не обсохшие слезы.
— Я спрашивал, дитя мое, о причине вашего горя и о том, нельзя ли ему помочь. Доверьтесь же мне!
— Ах, горя у меня, сударь, достаточно. Купите, сударь, купите мои лазанки! Должна вам сказать, что сегодня праздник моей покровительницы, святой Гонорины, и что все молоденькие девушки Кодроипо, надев свои лучшие платья, сопровождают во время процессии ее раку… чудесную раку, украшенную длинными лентами, и каждая девушка держит одну из таких лент, подходящую по цвету к лентам ее наряда. Ах, как это красиво! Купите, сударь, купите мои лазанки! И, кроме того, четыре девушки несут попарно большие корзины, полные до краев фиалок, примул и других цветов этого времени года. Иногда они останавливаются и бросают пригоршнями цветы на раку святой Гонорины. Это самые умненькие и самые хорошенькие, и на них смотрят больше всего. В прошлом году я была одною из четырех, и с этого дня я ни разу больше не надевала своего чудесного ситцевого платья в цветочках. Купите, сударь, купите мои лазанки!
— Но церемонии, Онорина, пора бы уже начинаться. Почему же вы не надели своего чудесного ситцевого платья в цветочках?
— Почему, сударь? Вы спрашиваете, почему? Вот потому-то я и плачу. Овдовев, мой отец женился во второй раз, и сегодня утром, когда я спросила у мачехи мое платье, она ответила: «С вас станется, маленькая негодница, вы того и гляди разукраситесь с самого утра, словно рака святой Гонорины. Вы получите свое платье, но прежде извольте-ка продать эти лазанки». Купите, сударь, купите мои лазанки!
И она снова принялась плакать.
— Успокойтесь, дитя мое; на всякую беду есть управа, и у вас еще достаточно времени, чтобы успеть занять свое прошлогоднее место возле одной из этих больших корзин, полных до краев фиалок, примул и других цветов этого времени года. Клянусь, оно никуда от вас не уйдет.
— Ах, я не знала бы этой заботы, — продолжала она, — когда бы здесь продолжал бывать Марио Ченчи. Он ежемесячно приезжал в Кодроипо, а последние два месяца даже дважды в неделю, чтобы запастись провизией для своего дома и своих бедняков. Он брал у меня все, какие были, лазанки, и никогда не уходил, не подарив мне колечка, булавки или какой-нибудь другой ценной вещицы. Он ласково похлопывал меня по щеке и говорил: «Будь умницей, Нина, будь умницей, красотка моя, и когда-нибудь ты найдешь себе хорошего мужа, потому что ты и впрямь так же мила, как твоя бедная мать».
— Ну вот, милая Онорина, у вас, стало быть, две причины утешиться и обрадоваться: сейчас сюда придет Марио.
— Как же он сможет прийти, — вскричала она, — ведь он умер!
— Марио умер?
— Вы с ним были знакомы, а про это не знаете? Две недели назад он приходил сюда и стоял на том же месте, где вы стоите; вопреки обыкновению, он проводил ночь у своего богатого друга, доктора Фабрициуса, чтобы принять на следующее утро причастие. Я продала ему весь свой запас. Купите, сударь, купите мои лазанки.
— Они уже куплены. Продолжайте, Нина, пожалуйста, я не стану вас больше задерживать.
Ее глаза оживились; они засияли. Контраст между ее рассказом и невинною радостью молоденькой девушки, такой счастливой от того, что ей снова предстоит надеть ситцевое платье в цветочках, заставил сжаться мое сердце. Я положил на ее лоток целый цехин и стал слушать, не поднимая на нее больше глаз.
— Вы мне дали чересчур много, сударь, и я не знаю, как разменять…
— Я дал вам чересчур мало, Онорина, но продолжайте, продолжайте же, ради бога…
— Ночь была очень бурною, но разве ему когда-нибудь было до этого дело? Нет такой вещи, которая могла бы остановить синьора Марио, если он задумал что-либо сделать. «При любой погоде я должен переправиться через поток, — сказал он старому доктору, — у меня есть на это причины. К тому же я вскоре вернусь; ну а если этому что-нибудь помешает, вам известны мои указания, и вы сможете обойтись без меня». Увы! Он не вернулся и никогда-никогда не вернется!
— Продолжайте, Онорина, продолжайте. Расскажите по крайней мере, как же это произошло!..
— Хорошо, я расскажу все, что слышала. До самой грозы погода стояла чудесная. До чего же восхитительно было в дни карнавала! Но снег в горах начал таять, реки вздувались, и Тальяменте, разлившись от выпавшего накануне дождя, стал широк и бурлив, как морской рукав. Перевозчик не решался переправляться, но синьор Марио со своим албанцем — не знаю, был ли он вам знаком — сам взялся за весла. Они долго-долго плыли и благополучно отъехали уже далеко-далеко, но едва добрались до середины реки, где есть опасное место, как на них внезапно обрушилась большая волна, и такая высокая, что скрыла под собою их лодку, и она утонула. Синьор Марио, умевший плавать как рыба, не растерялся, и ему все это было бы нипочем, но албанец, человек уже пожилой, — ему было лет сорок, — тщетно боролся с волнами. Люди, смотревшие на это с правого берега, рассказывают, до чего это было ужасно. Едва синьор Марио проплыл несколько саженей, как ему пришлось воротиться назад, чтобы, обхватив рукою своего слугу, потащить его за собой. Ведь он был такой добрый и смелый, что готов был стократ подвергать опасности свою жизнь ради спасения простого крестьянина. Это продолжалось почти целый час, и все лодки, насколько могли, приблизились к середине потока, но ни одна из них не подошла к ним вплотную, чтобы оказать помощь. А потом все хорошо видели, как албанец вырвался из рук своего господина и погрузился в пучину с намерением умереть. О, благородный Марио! Он еще мог, если бы того захотел, добраться до берега, но он плавал и плавал вокруг албанца, который пытался снова уйти под воду, и кричал ему что-то, но что именно, не могли разобрать. Затем Марио вытаскивал его на поверхность, погружался с ним вместе, показывался опять, и наконец их больше не стало видно. Найти их трупы так и не удалось. У нас говорят, что все это предсказал какой-то равеннский прорицатель или кто-то другой.