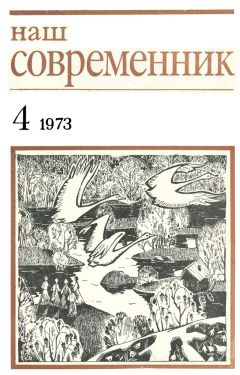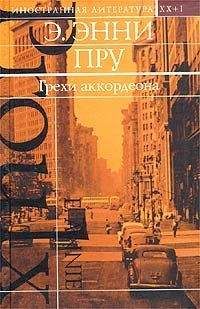Никитин и Сурен были совсем по-летнему, без пальто.
— Будь здорова, именинница!
Иван протянул Варваре Анатольевне «саперави» в длинной бутылке и корзиночку алых роз. Как всегда. Бутылку этого легкого приятного вина и розы Иван присылал Первого мая все последние годы.
— Примите и мои поздравления! — Сурен элегантен: отлично сшитый черный костюм, белоснежная сорочка. Юю повизгивала у его ног: узнала. Приезжая из Москвы на каникулы, Сурен бывал у Димовых, возил Женьку в театр, на выставки. — Здравствуй, Ююшка, вот твоя конфета.
Юю деликатно взяла конфету, поднялась на задние лапки и по-японски — головку набочок — трижды поклонилась.
Отдав один букет Варваре Анатольевне, Сурен оглянулся по сторонам, не зная, куда деть другой — тюльпаны.
— Евгении нет дома, — сказал Павел. — Тюльпаны тоже придется вручить имениннице.
— С величайшим удовольствием! — Сурен уронил в поклоне курчавую голову. — Сегодня утром мой папа, Иван Тимофеевич, сказал, что если бы ему поручили преподнести букет всем женщинам мира, он положил бы его у ваших ног, Варвара Анатольевна. Последнее время папа, даже бреясь, говорит столь торжественно.
Трудно представить двух людей, более не похожих, чем сын и отец Никитины. Коренастый Сурен с буйной черной копной — чайный куст на голове — и высокий, сохранивший выправку Никитин с ржаными бровями и светлыми, поредевшими, гладо причесанными волосами. Жгучий юг и славянский север, но от приемного отца Сурен перенял манеру говорить обо всем шутливо, с иронией.
— Спасибо, Сурен! Спасибо, Иван Тимофеевич! Рада вас видеть. Милости прошу.
Все, кажется, получалось хорошо, как всегда, как годы назад. Иван прошелся по гостиной, как бы узнавая ее, остановился рядом с креслом-качалкой.
— В этом доме, Сурен, мы с тобой узнали самую дорогую ласку — ласку доброй, умной, красивой женщины. Поздравим и дом сей с днем рождения его хозяйки.
Он трогал знакомые вещи: бронзовые часы, друзу горного хрусталя, статуэтку Дон Кихота, как будто здороваясь с ними. Или прощаясь. Часы и друзу Иван подарил Димовым лет пятнадцать назад, и с тех пор они переезжали вместе с хозяевами с квартиры на квартиру.
— Тебя тоже надо поздравить, — сказал Павел.
— С орденом? Поздравляй. План по горшкам, Варенька, перевыполнил. Но не потому я сегодня выражаюсь высоким штилем, Димов. А потому, что весна, Первое мая!.. День рождения твоей супруги.
Совсем больной стал Никитин: виски ввалились, на высоком, сероватого цвета лбу синие ниточки вен. Таким же возбужденным, говорливым Иван был и в тот день, когда Варвара Анатольевна уехала в Коряковку, к матери. Расхаживая по гостиной, Иван рассказывал про свой завод, где только что запустил первую конвейерную линию. От Ивана пахло дымом и глиной, азартом картежного игрока, предчувствующего великий выигрыш.
Вернувшись потом от матери, Варвара Анатольевна попросила Павла больше не приглашать Никитина. Никогда!
— …Дожил я еще до одного дня твоего рождения, Варвара свет-Анатольевна! Налей-ка мне, да побольше, да не шампанского, а водочки… И не смотри на меня укоризненно. Ну и что же, что два инфаркта… Твое здоровье! Пей, Димов, и не качай головой, лектор по вопросам любви и морали! Когда я умру, ты будешь на моем примере воспитывать телезрителей. Ходить бы ему, скажешь ты, на процедуры, а он водку пил. И умер. Нет, Димов, аббат Заречного района, ваше преподобие! Зачем мне процедуры? Сурен говорит: запишись на очередь за новым сердцем — заменят. С чужим сердцем — это все равно что с чужим билетом. Жить зайцем. Не хочу, аббат, гордость не позволяет. Пора, коли приглашают на ту сторону реченьки, откуда не возвращаются.
— Папа! Такие речи сегодня!
— Виноват. Прости, Варя. Весной меня тянет на речи, как скворца на песни. Люблю весну! Финансовый год моего завода начинается в январе, а мой личный — Первого мая. Димов, выпьем за твою жену, самую красивую женщину, с которой нам довелось с тобой… дышать одним воздухом. Варвара Анатольевна из тех женщин, Сурен, которые с годами не стареют, а только меняют свою красоту. Как наряды.
Как все повторяется! Павел и в тот день так же, молча улыбаясь, слушал, а Иван говорил, говорил, заполняя гостиную шутками, смехом, своими дерзкими, немного хвастливыми проектами. Вот проекты выполнены, и орден ему дали, но как высох Иван, постарел, высосанный своими болезнями! Доктор сказал, что лечить две неизлечимые болезни — штука почти бесполезная, и пусть Иван говорит спасибо за каждый прожитый день.
— Сурен, сын! — выпив, снова заговорил Никитин. — Раскрою тебе семейную тайну. Знаешь ли ты, что мы ухаживали за Варварой Анатольевной вместе с Павлом Сергеевичем? И знаешь, почему выиграл мой друг, младший сержант Димов? Он пообещал Варваре Анатольевне яхту с алыми парусами. Пообещал мечту. Обещание свое Димов не выполнил, но, как видишь, выиграл.
— Ой, Тимофеевич, маху ты дал, — засмеялся Димов. — Яхта есть! Яхта будет! Завтра мы спускаем семейную каравеллу на воду. Милости просим на торжество!
— Сдаюсь, Димов. Приношу свои извинения. Значит, обещание исполнено, мечта материализована, но… не зыбкий парус, гоняющийся за ветром, а реальные лошадиные силы! Так, аббат?
Всегда они спорили, Никитин и Павел, иногда было даже трудно понять, о чем. В тот день Иван играл, как легонькой стекляшкой, массивной друзой хрусталя. Шесть лет! А сейчас сереньким бисером на лбу Ивана проступила испарина, и Варвара Анатольевна подумала: и правда, он скоро умрет. Женское чутье подсказало ей, Никитин пришел проститься, и проститься прежде всего с ней. Нехорошо, наверное, так думать, но ей вдруг пришло в голову, что тогда, во Владивостоке, сердце подсказало ей правильный выбор. Недаром говорят: вещун-сердце.
— Варя! Димов! — Никитин откинулся на спинку кресла. — Мне давно не было так хорошо. Если бы какой-нибудь зав по судьбам спросил, как мне пожилось на этом свете, я бы ответил: прекрасно! Все у меня было, и, если бы пришлось повторить жизнь, я бы ничего не переменил и даже от своих инфарктов не стал убегать. Одного не довелось узнать: что такое любовь женщины, которую любишь. А без этого жизнь, как в сказке сказывается: мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.
Варвара Анатольевна налила себе вина, неприлично много — полный фужер.
— А ведь я любила тебя, Иван Тимофеевич, — глядя в фужер, сказала она. — Тогда, во Владивостоке. И по ночам плакала. Я была такая глупая…
Чтобы прервать неловкую паузу, Павел засмеялся, потирая руки:
— Вот видишь, — начал было он, но попугай Афоня застучал клювом о прутья, заскрипел стариковским фальцетом:
— Хозяин! Налей водки, черр-р-рт поберрр-р-рри!
— В самом деле, хозяин, налей водки, — подхватил Никитин. — Спасибо, Варенька. Признание тридцать лет спустя — все равно признание. Оно первое в моей жизни. И знаешь, что, Димов, я бы сделал сейчас? Я бы крутанул земной шар в обратную сторону. На тридцать лет назад!
Острокрылая птица с длинным клювом летала над болотом и звонко звала: «Мариша! Мариша! Мар-р-риша!».
— Это кто? — спросила Женька.
— Кулик. Большой веретенник, — ответил Артем.
Звучали в голосе птицы настоящие слезы, казалось, сердце ее разорвется на части! Сложив крылья, птица камнем падала вниз, начинала челноком сновать над самым болотом, чуть не касаясь рыжих, растрепанных кочек, и вдруг круто взмывала в небо.
«Мариша! Мариша! Мар-р-риша!» — описывая широкие круги, звала она.
«Где же ты? Где ты? Где ты? — звонко, с болью, спрашивала птица, и после небольшой паузы снова: — Мариша! Мариша! Мар-р-риша!»
Артем срезал камышинку, что-то с ней поделал, постучал ножиком, потом взял в рот и тихонько свистнул. Птица, кренясь на разворотах, сделала несколько кругов и стремительно начала падать вниз. Казалось, вот сейчас она врежется в землю и разобьется насмерть.
— Не надо ее обманывать, — попросила Женька.
Они долго обходили свинцово синевшее озеро Гусь Малый, продирались сквозь таловую крепь и, поднявшись на сухую гривку, снова увидели ровную, без конца и края степь. Всюду сверкали разливы, большие и малые озеринки, тихо текущие речки, а на самом горизонте синела большая вода. Она стеной поднималась выше горизонта и, казалось, сейчас прольется и затопит всю степь.
— Что это? — спросила Женька. — Такое синее?
— Гусь Большой. Одна половина его пресная, другая — соленая. Соленая уже в Кулунде. А дальше начинается Казахстан, ковыльные степи.
Так они и шли: Женька спросит о чем-нибудь, Артем ответит, расскажет, и снова оба идут молчком. И шатался по степи влажный ветер, шуршал в сухих травах, вкрадчиво шептал в уши. Женька оглядывалась, явственно слышала до боли знакомый голос, испуганно замирала, но в степи никого не было. Брело среди редких облаков неяркое степное солнышко, журчал над головой невидимый жаворонок. Женька подняла воротник, чтобы не слышать ветра, но спрятаться от него было невозможно.