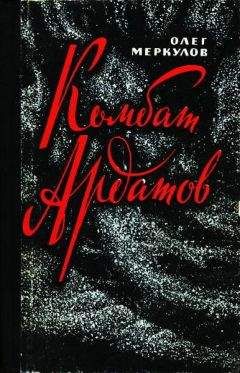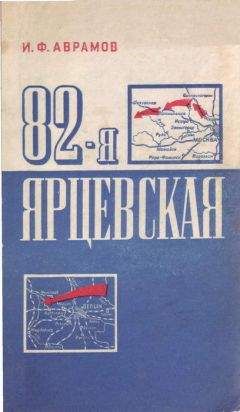— Да… да… — говорил тише Васильев, как бы прислушиваясь к тому, что он говорил, или как будто заглядывая в далекую блистательную жизнь Талича.
«Так, так. Можно устраивать самодеятельность, — усмехнулся про себя Ардатов. — Будущий гениальный актер! Музыкант! Чесноков прочтет стихи Маяковского про молоткастый-серпастый, а Белоконь, наверно, умеет делать фокусы с картами. Но гвоздь программы — Талич и Васильев, профессионалы… Что ж, это тоже ничего. Во всяком случае, они, если надо, поддержат настроение. Нельзя же, чтобы все были мрачными вроде меня; получится похоронная команда. Надо только за ними приглядывать».
Они прошли немного молча, но вдруг Васильев попросил:
— Товарищ капитан! А, товарищ капитан! — Он подошел совсем вплотную, плечо к плечу и, понизив голос, сказал:
— Поберегите Талича! Я прошу вас. Нельзя, чтобы такой талант погиб. Так, знаете, как… Я понимаю, каждая жизнь — целая вселенная, каждый человек — мир, но все-таки… Такие, как Талич, рождаются один на миллион! Что я? Что многие? — Он в темноте махнул рукой — Ардатов видел ее тень. — Так, посредственности!.. Человеческая икра! А мы, быть может, говорим сейчас о гении… О гении! Поэтому-то я и прошу вас, поберегите Талича. Явите божескую милость…
Ардатов тронул Васильева за плечо.
— Ладно. Постараюсь. Но вот что — до утра на вашей трубе ни звука. Песня, конечно, строить и жить помогает, но… но всему свое время. Договорились? Хорошо. Свободны…
«Поберегите! — подумал Ардатов. — Поберегите Талича! Как будто тут можно кого-то поберечь!»
Их, конечно, было слышно далеко: они сошли с дороги и шли степью — под сотней пар ног хрустела полынь, и топот сапог и ботинок о сухую землю, хотя все старались идти потише, сливался в гул.
Новолунная ночь была в самом разгаре, дымка с неба исчезла, вызвездило так, что проступили очень маленькие звезды, и в неверном, холодном свете звезд иногда угадывались впереди тени разведчиков, которые шли, чуть пригнувшись, держа оружие наготове. Пахло полынной пылью, еще какими-то травами. Пересвистывались суслики. Несколько раз перед ними испуганно взлетала разбуженная птица, она черным стремительным комком пересекала звезды и исчезала в темноте.
Мерно шагая, мерно дыша, мерно махая в такт одной рукой — другой он придерживал лямку, чтобы вещмешок не съезжал, — Ардатов думал:
«Если найду батальон, возьму всех в него. Потрепанные роты солью, а из этих сделаю роту. Будет очень неплохо. Хорошо бы, что в тех ротах остались пулеметы, можно было бы разделить. Или нет, наоборот, слить их всех в кулак, в пульроту. Что-то от пульроты должно остаться… Но там посмотрим. Пулеметчиков надо проверить — если есть случайные — заменить. Из этой сотни сколько-то найдется. Тырнова на взвод, кого-то из взводных — на эту роту. Щеголева… Но посмотрим, что Щеголев стоит в деле… Или сделать наоборот — всех этих поделить по ротам? Посмотрим. А Чеснокова — отделенным или помкомвзвода? Нет, помкомвзвода рано, а отделенным в самый раз. А если его по комсомольской линии?.. Да! — сказал он себе. — Утром узнать, сколько членов партии. Но лишь бы найти батальон. А до утра прибиться к кому угодно! Обстановка покажет. Главное — успеть до света найти своих и хорошо бы хоть немного закопаться — он, мерзавец, с зари начнет бомбежку, и если не закопаться!.. Зароемся», — подбодрил он себя.
По вспышкам ракет он приблизительно определял расстояние до немцев. По этим же вспышкам он убедился, что был прав, считая, что строго на запад и южнее слева — не то открытый фланг какой-то нашей части и немцев, не то широкий стык, неприкрытый никем, в который немцы или не успели воткнуться или о котором еще не узнали.
«А если наши просто должны были загнуть этот фланг? — предположил он, вспоминая карту Нечаева. — Или втянуть его, потому что фланг жидкий и, чтобы уплотнить, надо сократить его? — На карте Нечаева не было четкой линии фронта, а были лишь овалы, красные овалы, которыми означали расположение ведущих бой наших разорванных группировок и частей, перед которыми, а также и между которыми, в синих овалах были немецкие группировки и части. — Сам леший не разберет! Но посмотрим…»
Они шли уже часа полтора, и сзади несколько раз говорили как бы между собой, но так, чтобы он слышал:
— Перекур бы!
— Привал!
— Передохнуть бы надо!
Ардатов тоже хотел курить, но он только зажал травинку в зубах, пожевывая ее горький стебель.
— Отставить! Отставить припал! — оборвал он эти разговоры и, пропуская всех, поторапливал: — Не растягиваться! Догнать! Не отставать!
Но минут через двадцать, послав сообщить охранению, он скомандовал:
— Стой! Привал! Курить под шинелью! — и, дождавшись Тырнова и Щеголева, отошел в сторону, на ветерок. — Полчаса, — сказал он им. — Потом еще один — покороче — и до рассвета. В шесть уже видно. Отставшие есть? Как Тягилев со своим воинством?
— Один только Лунько. Пекарь. Тянется. Ноги стер. Тягилев молодец, они у него, как ягнята, — объяснил Щеголев.
— Что у вас, Лунько? — спросил он, когда Щеголев привел отставшего. — А зачем брали на размер больше? Поэтому и потертости.
— Взял, думал… Тут, значит, меняли обувку, ну, я, значит, думал, возьму на размер больше, лето кончается… Чтоб зимой на шерстяной носок, да на байковую или суконную портянку, — оправдывался Лунько. — А оно, значит, получилось так… Косина получилась, товарищ капитан…
— Байковые портянки есть? — перебил его Ардатов. — Есть? Идите и переобуйтесь так, чтобы ноги не болтались. Ничего, ничего, не спарятся. Промойте сначала. Идите. И не отставайте.
— Запасливый дяденька! — усмехнулся Щеголев, укладываясь рядом. — И на байковую, и на шерстяной носок…
— На вещмешок не обратил внимания? — спросил Ардатов, залезая под шинель и прикуривая там. — Там у него продсклад.
Спичка осветила кусок подкладки, где была заштопана в госпитальной портновской дырочка от пули, которая попала ему в правую ключицу. Из-за этой пули он и пролежал два месяца в Кезе. Это была автоматная пуля, немец попал в него, когда они в апреле отбивали на Северо-западном наступление из Демьянского котла. Он тогда чуть не утонул в каком-то притоке Ловати, хорошо, что Коля Зубов, его ординарец, вовремя подхватил его, вытянул из ледяной воды, похожей на снеговую кашу, столько в ней плавало снега.
Кусочек пространства под шинелью, освещенный на миг спичкой, показался ему домом, он и пахнул домом, его теплом, его потом, его кровью. Собственно, он сейчас и был его домом, потому что никакого другого дома у Ардатова ближе, чем за две тысячи верст от Алма-Аты, не имелось, если не считать, что, конечно же, каждый клочок земли, на которой он лежал, сидел, ходил, всегда был тоже его домом.
— Да, вещмешок у него… — ответил Тырнов. — Больше чем у любого. Больше, чем оба наших с вами. Хотя у вас тоже приличный.
— Пригодится! — буркнул про свой мешок Ардатов, снова пряча голову под шинелью к руке, в которой у него была папироса. «Пригодится, — подумал он и о мешке пекаря. — Не будет же он таким жмотом, что… Хотя?!!»
— Никакой он не пекарь, а плотник. Косина слово плотницкое. Пристроился в пекарне — тепло, сыт, но, главное, безопасно, — сказал он Тырнову. — Ничего, теперь он повоюет.
Докурив, Ардатов повернулся на спину и потряс ноги, подняв их, чтобы кровь оттекла. «Это вам не госпитальные прогулочки, — подумал он о ногах. — Давайте, работайте!»
Все угомонились — никто уже не толкался в поисках закурки, не отходил в темную степь, в ту сторону, откуда они пришли, по нужде, разговоры смолкли, лишь Чесноков приглушенно внушал Просвирину:
— Ты это брось, дядя! Брось эти штучки! Ишь, вздумал: предательство, предательство. И впрямь тебе предательство! Все в вашей конторе только и думаете о предателях! А ты читал про этих предателей? Где было напечатано? Читал? То-то!
— Люди говорили… — пытался возразить ему Просвирин, но Чесноков оборвал его, презрительно заявив:
— Люди говорили! Говорили, говорили — мед варили, кинулись — брага! И не сей панику! Мало ли что отступаем? А может, не отступаем, а заманиваем? А если именно заманиваем? Если заманиваем?
— У тайгу, что ли? У тайгу заманиваем, за Урал? — зло сомневался Просвирин.
— Впрямь — за Урал! Дурак ты! И вообще — иди ты… Иди ты в пим дырявый!
— На море, на Охотское море заманиваем, — включился против Чеснокова еще кто-то, ехидный и желчный. — Аж на Камчатку! Попредавали народ, сами попрятались, а теперича…
— Да я тебе!.. — взвинтился Чесноков. — Да я тебе за эти слова…
— Чесноков, отставить! — скомандовал Ардатов.
Все затихли, спор погас, но Ардатов слышал, как пекарь Лунько пробормотал вроде никому и в тоже время всем:
— И тут — отставить! У каждого жизни, может, с обмылок осталось, может, завтра из нас лопухи пойдут, ан все равно — «Отставить!» Эх ма!..