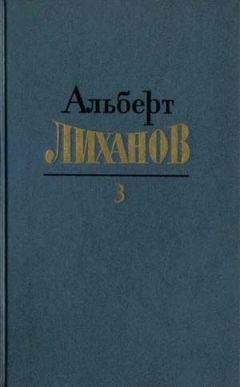Неприятности у Анны Николаевны? О таком нам приходилось слышать впервой. Из какого-то, может, кино, я знал, хотя и не понимал мудреное выражение: «Жена Цезаря выше подозрений». Кто такой Цезарь мне было неизвестно, а про его жену тем более, но звучало твердо и гордо, так что и наша орденоносная Анна Николаевна была выше подозрений, хотя она и не жена Цезаря.
Какие там у нее могут быть неприятности? Из-за чего?
Оказалось, из-за кого. Из-за музыканта по фамилии Цукер.
Весь тот урок, когда Мешок со своим любопытством вылез, а классная руками на него махала, была она какой-то не своей. Подходила к окну, ответ слушая, а когда отвечающий замолкал, долго о чем-то там думала и ничего не замечала. Отделывалась короткими словами: «Хорошо», «Садись!»
Потом устроилась за своим столом, потерла виски пальцами и негромко сказала:
— Дети!
Когда она так негромко начинала, мы сразу притихали. Знали, что услышим что-то важное. Серьезное. Ведь о серьезном грохмко не говорят, только вполголоса.
— Дети! — повторила она. — То, что я скажу, мне бы говорить не следовало. Но хуже нет, — она обвела нас строгим взором, — когда врут взрослые. Так что… Вот Мешков спросил. Отвечаю. Этот музыкант не имеет права работать в школе. Даже не работать, а вот просто… ну, рассказать о музыке, что-нибудь сыграть. Понимаете? Это не по его воле.
Потом была тишина.
— Вы поняли? — спросила учительница. Но мы не понимали, хотя дружно закивали головами. Повторю, что уже написал раньше: мы не знали, но чувствовали, слышали без слов, предполагали без объяснения, что в жизни есть какие-то взрослости, о которых не говорят.
Думают? Думай не здоровье. Но помалкивай.
Я подумал, что кто-то меня водит вокруг самого же меня, как в жмурки: завяжут глаза, раскрутят, а потом отпустят — ищи.
Вот и меня раскрутили. Я-то хотел как-нибудь повиниться, что ли. Спросить у музыканта, чем же труба отличается от тубы и что это вообще за инструмент такой. Хотел быть внимательным на его уроках. Старательным думал стать учеником — лишь бы он только понял, что нюхал я его не со зла, а просто так — из любопытства.
Но у меня отняли возможность извиниться. Я чувствовал свою вину и досадовал, что не могу исправиться. И тогда я стал выходить в сумерки на улицу. Стоял на обочине и ждал, когда поедет обоз, чтобы взглядеться в золотарей и махнуть музыканту.
Странно — но его не было. Стариковские бороды выглядывали из капюшонов, посверкивали немолодые взоры, выплывал табачный дым, согбенные фигуры продвигались передо мной, но черноволосого я не встречал.
Однажды я даже предпринял совсем отчаянную попытку. Ведь ассенизационная станция — помните? — была совсем рядом с нашим домом, и однажды, когда солнце уже приближалось к горизонту, чтобы уйти и уступить место синим сумеркам, а обоз золотарей еще не выехал за ворота своего хозяйства, я, стараясь ни к чему не прикасаться, просунулся в щель между полуприкрытыми створами ворот.
Посреди площадки встроены в землю железные большие решетки, куда, как я догадался, сливался отхожий груз, а справа и слева были конюшни. Перед ними, как какая-то, может, артиллерия, стояли бочки с оглоблями, задранными вверх. Часть левой конюшни, которая ближе к забору, походила на людскую — тем, что к ней было приторочено невысокое крыльцо, да из-за двери слышались голоса.
С дребезжащим сердцем я подошел к двери и, чтобы не пачкать руки, отворил ее плечом. На меня воззрилось несколько старческих лиц — причерненных каких-то — то ли недостатком света — в комнатке огонь не горел, — то ли возрастом, а может, и самой работой.
Старики и две женщины глядели на меня с удивлением, хриплый голос произнес:
— Чего ищешь, малец?
— Музыканта, — проговорил я перепугано. — Соломона Марковича. Он здесь?
— Музыка-а-анта? — подивился чей-то голос.
— Здесь, здесь, — перебила женщина, — только он не у нас — на северной станции. Это из ссыльных, — добавила еще, и тот, что удивлялся, проговорил:
— А-а, из ссыльных. Дак там не только музыканта найдешь. А и министра.
Я уже пятился назад, больше делать здесь было нечего.
— Знаешь, где северная-то? — спросила женщина и принялась объяснять. Я слушал, но невнимательно.
Я уже знал, что искать музыканта больше не стану. Не просто пугало, а вызывало дрожь одно только слово «ссыльный».
И не подумайте, что, например, об этом говорила мне мама. Предупреждала там, пугала. Или бабушка. Нет! Да и в детском нашем мире никаких речей о политике никогда не было. Мы жили, погруженные в заботы об отметках, о еде, о наших детских страстях, вовсе порой не шуточных, но помалкивали о запретном.
А ведь и запретное-то никто не назначал, но вот ведь — оно подразумевалось.
Буду откровенен с собой, тогдашним. Испугался ли ты? Нет. Но включилось странное и вовсе не детское благоразумие. Будто какая-то шторка опустилась во мне, и я забыл музыканта.
Но не тут-то было!
Осенью, когда всё снова вовсю близилось к зиме, я наткнулся — лоб в лоб — на нашу учительницу. Она опять стояла с черноволосым.
Оба дружно повернулись ко мне и оба улыбнулись, будто я им подарки со сладостями нес.
— Вот и он! — воскликнул золотарь. Только теперь он был, хоть и в поношенном, но модном пальто и в крапчатой кепке, надвинутой чуть набекрень, не по-нашему, и я опять отметил в уме, что сразу видна его приезжесть.
Анна Николаевна ничего не сказала в ответ, просто, когда я, поздоровавшись и покраснев, проходил мимо, коснулась перчаткой моего плеча.
Не оборачиваясь, я пошагал далее, а когда успокоился, подумал: но она же не боится? Так чего трушу я?
Много лет спустя, уже в десятом классе, мы с приятелями раздобыли билеты на вечер танцев в красивом нашем, с колоннами, театре. Среди иных его прелестей было огромное фойе, устланное полированным паркетом: что может быть лучше для начинающих танцоров?
В углу фойе, на украшенной гирляндами эстрад-ке, ликовал и гремел маленький, но знаменитый в городе оркестр под управлением какого-то Сахара.
До сих пор мы с приятелем считали себя учениками, разучивали все эти фокстроты по-гамбургски и танго в маленьком школьном спортзале да бегали по соседним женским школам на совместные вечера. Выход в театр был парадом-алле, первым балом, увы, не толстовским — первым балом наших жестких послевоенных лет. К тому же в школах вечера проходили под радиолу, под хорошие, но пластинки, вроде довоенной еще «Рио-риты» или послевоенной «Голубки» в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко: «О, голубка моя, как люблю я тебя…»
А тут мы шли на живую музыку: весь вечер, как гласили афиши, эстрадный ансамбль под управлением С.М. Сахара.
Итак, войдя в фойе, пропустив пару танцев, чтобы оглядеться и пристреляться, я с дрожащим от неопытности сердцем пригласил старшеклассницу сходных со мной лет — и заходил, загулял в бравурном фокстроте.
Переживая близость девицы, запах типовых духов «Красная Москва», веявший от нее, сосредоточенный на том, как бы не сбиться с ритма, я незаметно приблизился к эстраде, под сияющую, переливающуюся чистыми звуками трубу, и мельком глянул на солиста.
Хорошо, что я умел переставлять ноги, двигать ими в танце уже совершенно автоматически. А то бы точно оконфузился, встал бы как вкопанный. Но я заученно и исправно танцевал, и только разом взмок: в трубу дудел Соломон Маркович Цукер.
Задирая трубу, он прикрывал глаза от блаженства, раскатывал по залу волнующие рулады, а ему подыгрывала скрипка, распахнутый рояль и, ясное дело, целая ударная установка с барабанами и тарелками. Оркестр дудел громогласно, волнуя новых дебютантов взрослой жизни, поощрял нас к смелости, к будущему и еще к чему-то, пока непонятному, но много чего обещающему.
С третьего, с четвертого класса я, понятное дело, совершенно изменился, вырос, и солнечный пушок струился к моим щекам, но я-то ведь не думал, что меня нельзя узнать. И вспыхнул, встретившись со взглядом музыканта.
Бог ты мой! Он кивнул мне! Улыбнулся и кивнул, будто старому знакомому. Что мне оставалось делать? Я кивнул в ответ, нельзя же быть невежливым!
И только когда отодвинулся со своей дамой, все в том же, протяжном по времени, танце подальше от эстрады, проговорил, мне казалось, про себя, а получилось — вслух:
— Цукер! Цукер!
— Цукер по-немецки сахар, — ответила мне моя дама, будто я что-нибудь ее спрашиваю.
— А? — переспросил я.
— Ну, вы сказали — цукер?
— Да!
— Так цукер переводится как сахар, я немецкий учу. И по-украински сахар тоже цукер — у меня мама украинка.
Здесь можно было бы поставить точку, если бы, уж совсем став взрослым, я не узнал: Соломон Маркович был выслан из Литвы как сын богачей-родителей. Они владели какими-то заводами, и поэтому их отправили в лагерь, откуда не возвращаются. А выпускник консерватории заводами не владел. Он был только сын. Поэтому приехал к нам в ссылку.