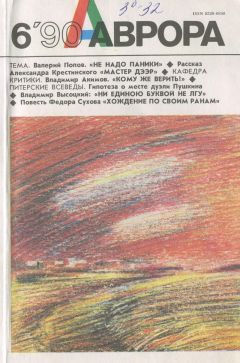— Ваша специальность и место работы?
Пришлось сослаться на «охранную грамоту», из нее все же можно узнать, чем я занимаюсь.
— Член Союза писателей… Писатели книги пишут.
Я горько пожалел, что прихватил с собой и вправду не очень-то соответствующий моему бродяжьему посоху документ.
Неистово расчирикались воробьи, наверное, радовались утренней прохладе; когда взошло солнце, они сразу стихли.
Старший лейтенант посмотрел на часы, дежурство его, видимо, кончилось. Я в свою очередь поинтересовался: долго ли меня намерены держать в отделении? Ответа не получил. В голову полезла всякая дребедень: может, я незаметно влип в какую-то историю? Но где? Когда? Пьяным я вроде не был, с подозрительными людьми не встречался…
На смену старшему лейтенанту пришел капитан, на вид совсем молодой. Я внимательно следил за движением его лица. Садясь за придавленный толстым стеклом стол, капитан исподлобья покосился на меня слегка прищуренными, не лишенными любопытства глазами. Значит, я не случайно сижу в милиции, а раз так, терпение мое дало трещину, и мне захотелось приблизить развязку затянувшейся ночной истории.
Затрещал телефон. Капитан приложился к трубке, по его лицу можно было видеть, что он говорит с не терпящим никакого возражения начальством.
— Слушаюсь, товарищ майор! — Капитан положил трубку и, кивнув в мою сторону, поднял меня с угретой взошедшим солнцем деревянной скамейки.
Стукнули об пол подковки хромовых сапог, скрипнули подмятые властными милицейскими шагами давно исхоженные половицы. Тем же скрипом отозвались ступеньки крутой, коленом выдвинутой лестницы.
Поднялись на второй этаж. В просторном кабинете, увешанном плакатами, наглядно рассказывающими о правилах уличного движения, за зеленым, громоздким, как биллиард, столом стоял низкорослый, щупленький, с белыми вихрастыми волосами начальник милиции, майор. Он поздоровался со мной за руку и предложил сесть. Такой любезности от милицейских работников я, признаться, не ожидал. А это еще больше насторожило, мне думалось: майор не позвал бы меня к себе в кабинет, если б ничего особого не случилось. Он, надо полагать, лично решил заняться мной, кстати, мои бумаги уже лежали на зеленой луговине аккуратно прибранного стола.
— Вы раньше были когда-нибудь в Семилуках? — этот вкрадчиво заданный вопрос не таил в себе ничего такого, чтобы заставить задуматься. Я был в Семилуках, но был тогда, когда… И тут-то я не сдержался, во мне заговорило не только оскорбленное человеческое достоинство, но и запоздалая обида, заговорила моя окопная молодость, взвыли мои посыпанные солью старые раны.
Майор молчал, выжидая, когда я успокоюсь. Он вряд ли понимал всю глубину моей обиды, но не мог не чувствовать своей неправоты.
— Вы нас извините. Произошло маленькое недоразумение.
— Какое недоразумение?
Оказалось: во всем виновата моя куртка.
В ночь с 11 на 12 июля студентка Воронежского сельхозинститута (сохраняю в тайне ее фамилию), возвращаясь из села Ново-Животинного, подверглась нападению двух парней… Дальше начальник отделения кратко описал внешность студентки: хрупкая, синеглазая, весьма симпатичная девушка. Сказал он несколько слов и о парнях, на одном из них была точно такая же куртка, как и на моих плечах. И еще раз повторил уже слышанную мной фразу:
— Вы нас извините. Произошло маленькое недоразумение.
Майор передал мне мои бумаги и, чтобы как-то замять произошедший инцидент, шутливо посоветовал написать что-нибудь о работниках милиции.
— Непременно напишу.
— Напишите, как вас задержали и привели в отделение…
Я пообещал написать о том, что мы много говорим о дружбе, товарищеском отношении, о любви, о человечности, но сами бываем черствыми и невнимательными друг к другу.
— Вчерашний случай, — сказал я, — мог бы не произойти. Девушка могла бы не оказаться жертвой ночных шарлатанов, если б я, видя, что она осталась одинокой, проводил бы ее до дому, просто так, как добрый попутчик.
— А вы что, вместе с ней ехали?
— Да, вместе.
— Теперь все ясно, — раздумчиво произнес майор и потянулся к телефонной трубке.
А что ему было ясно, я так и не узнал. Попрощавшись, я спустился со второго этажа, прошел мимо дежурного, хотел было сказать: до свиданья, но не сказал, свидание с милицией не так уж приятно даже тогда, когда не чувствуешь за собой никакой вины.
Линяли тополя. Закуривая, я обронил на присыпанный тополиным пухом окраек тротуара непогашенную спичку, пух вспыхнул легко и почти невидимо, как спирт. Синевато бегущее по тротуару жидкое пламя никому и ничему не угрожало — деревянных построек вблизи не было, но я забеспокоился: баловство с огнем до добра не доводит. Да и не хотелось давать повод для еще одной встречи с милицией. Но быстро вспыхнувший пух так же быстро погас, никем не замеченный, даже милиционером, что проходил мимо меня возле газетного киоска. В киоске я купил «Шаги по росе» Василия Пескова, хотелось уединиться, где-то присесть, полистать книгу. Потянуло к Дону, к его высокому обрывистому берегу. Присел я неподалеку от набитой прошлогодней листвой забурьяненной яружины. Было тихо, и мне казалось, что я все время слышу багряный шелест хорошо памятной осени. Вынул из кармана накинутой на плечи грубошерстной полынно-голубоватой куртки написанное в садовой сторожке в присутствии крепко спящего Митрофана Ильича письмо, которое так и осталось неотосланным. Вот оно, это письмо.
…Итак, через двадцать один год — ты можешь себе представить? — я нахожусь как раз на том месте, на котором был вырыт мой, уже не первый и не последний блиндажик, и мне хочется рассказать тебе об одном случае из своей окопной жизни. При встречах с тобой, насколько помнится, о нем я старательно умалчивал. А сейчас расскажу. И расскажу все так, как было.
Стояла погожая, на редкость теплая осень. В это время в городе, в котором ты живешь — я знаю, ты не любишь возвышенных слов, но я не найду другого слова, тем более оно мне бесконечно дорого, — решалась судьба нашей Родины. Враг занял не только значительную часть советской, исконно русской земли, но обманом и хитростью старался занять и нестойкие сердца. Я тебе как-то говорил, что на войне я был командиром взвода, сначала противотанковых ружей, потом противотанковых пушек. Было у меня во взводе трое бойцов: Корсаков, Стрельцов и… Запамятовал фамилию… Один из них был из-под Саратова, другой из Сибири, третий из-под Курска. Когда мы перед отправкой на фронт стояли под Саратовом, Корсакова навестила мать. Она попросила, чтобы мы «хотя бы на ночку» отпустили ее сына домой. Мы это сделали. Он, как и многие из нас, был очень молод. Его лицо с бескровными, солончаковыми губами мне хорошо запомнилось. Он всегда был послушен и исполнителен. Стрельцов попал в мой взвод после. Я увидел его в то время, когда мы стояли как раз на месте той сторожки, в которой я сейчас нахожусь, сижу за дощатым, самодельным столом и при свете керосиновой лампы пишу тебе настоящее послание. На вновь прибывшем рядовом Стрельцове свежо топорщилась не тронутая фронтовым потом гимнастерка. Было видно, что он еще не нюхал пороха, не сидел в окопах. Красивый был мальчик, ему бы не воевать, а стихи складывать да на девочек заглядываться… Однажды, когда осень стала забрасывать наши окопы багряно-желтой листвой, Корсаков попросился сходить к Дону, чтоб осчастливить глубоко окопавшийся взвод кочаном капусты или похрустывающей на зубах надерганной из земли морковью.
— А с кем бы ты пошел?
— С кем угодно, могу сходить со Стрельцовым.
Стрельцова пускать мне не хотелось, я знал, что пойма Дона была заминирована и на ней часто подрывались. Корсаков заметил, что я мнусь и ничего определенного не говорю, тогда он предложил другого бойца, того, чью фамилию я запамятовал.
— Идите, но с вами пойдет старшина Капустин.
Старшина был участник финской войны, человек уж в годах и на него я мог смело положиться.
Товарищи ушли перед закатом солнца. Долго не возвращались, а когда стемнело, вернулся один старшина. Я спросил старшину: а где другие огородники?
Последовал неопределенный ответ:
— Как-то разошлись…
Я встревожился. Тревога моя была небезосновательной, из моего взвода один боец дезертировал, и я крепко предупрежден. Пришлось сказать старшине, чтоб он отправился снова на пойму и нашел исчезнувших товарищей.
Нашлись только шинели. Доложили командиру роты. Командир роты строго посмотрел на меня и приказал найти пропавших — живых или мертвых.
— Иначе, — сказал командир роты, — не возвращайся во взвод.
Осень была теплой, но по вечерам ощутимо свежало. А когда мы со старшиной стали подходить к Дону, к его пойме, совсем захолодало. Взошла и четко обозначилась полная, с таинственными пятнами луна. Серебряно чешуился притихший, огороженный тальниковыми зарослями Дон. Слышно было, как тревожно шушукался тронутый сизоватой окалиной камыш. Пожалуй, он один мог сказать что-то о бесследно исчезнувших товарищах, но, кроме таинственного шушуканья, мы ничего не слышали. Сам я не возлагал особых надежд на наш ночной поиск, но, помня слова командира роты, вернуться во взвод с пустыми руками не мог. Так пусть лучше убьет меня или ранит тут вот, возле камышей, возле прибрежного донского песка… Но странное дело, ни одного выстрела ни с нашей стороны, ни со стороны немцев. Только камыши шушукаются да мельтешат под ногами опадающие тальниковые листья. Я молчал, старшина тоже молчал. Мы ничем не могли утешить друг друга, и я ускорил шаг…