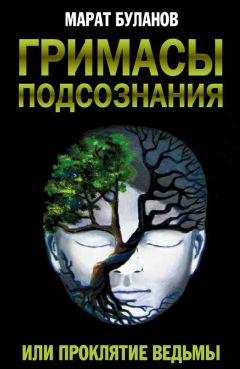На улице лил дождь. На жестяных подоконниках подпрыгивал каплями и с глухим шумом обдавал брызгами, будто собираясь шумным ливнем ворваться в окно и омыть нарядные лохмотья.
В углу кто–то вяло и жалобно пьяным голосом тянул песню:
Девицу–красавицу…
Рядом с Наташей лежала худенькая девушка лет девятнадцати с бледным лицом и с широко открытыми черными большими глазами, смотревшими в окно с какой–то жаждой и упоением. Сухая, обвисшая грудь тяжело дышала, в горле слышалась хрипота, в отброшенной руке слабо дымилась папироска. Густо накрашенные губы горели как яркий мак, расцветший на белой глине.
— Ира, пойдем? Дождь прошел, — толкнув ее, спросила проходившая девушка.
— Нет, я не пойду, — душа болит. Раздумалась я сейчас и вижу, будто Сашка подошел ко мне и долго смотрит в глаза суровым, обиженным взглядом.
— Пойдем, сегодня суббота, — франтов на Неглинке теперь полно.
— Не пойду, — тихо вскрикнула девушка и отвернулась к Наташе.
Мысли оборвались.
Наташа, услышав знакомое имя, схватилась за голову, и перед ней живым призраком встал хмурый заботливый Сашка. Живые вереницы воспоминаний полились в ее голове. Когда–то там, далеко, в теплушке, он, уткнувшись ей в колени, рассказывал ей, а она плакала, стыдливо скрывая слезы. И Наташа рассказала девушке про своего знакомого Сашку.
— Это тот самый Сашка, — заговорила Ира, выслушав ее. — Он часто говорил мне твое имя, часто вспоминал о тебе. Я ходила в колонию справляться о нем, но ребята сказали, что он удрал.
Они замолчали. Шумный говор пьяных девиц и старух стал слышней. Тяжелый смрад, казалось, еще сгрудился и не давал дышать. В углу кого–то тошнило. Нестерпимо пахло вином. К часу ночи они, захлестнутые волной раздумья, сладко спали, улыбаясь чему–то. Тяжелая жизнь оборвалась до рассвета, и мученья мгновенно отошли в бездну глубокого сна…
Утром, когда еще ранняя заря не успела
Окрасить лежавший трупом чудовища город, к они уже шли в него. Через час он был таким же хвастливым, обманчивым, наружно–красивым, как всегда. Уличный человеческий поток проглотил их, и те же старые, тоскливые будни серыми днями закружились вокруг них.
Ранним весенним утром, вернее, в конце зимы, когда каменные спины улиц не освободились еще от снега, а лужи лежали тоскливыми заплатами, поблескивая от лучей слабо согревающего солнца, они, усталые, сидели на улице. Мимо них под барабанный бой и с оркестром проходили пионеры и рабочие демонстрации. Красные знамена, купаясь в воздухе, кричали лозунгами о борьбе, о красивой свободной жизни. Красные косынки работниц и комсомолок, чудилось, подмигивали им и звали. Оркестр, раздирая души бездомных, будил сознание и громко с отчаянием плакал в ушах.
— Нет, нет, я не могу здесь, пойдем на Трубную, — подымаясь, сказала Ира. И с тупыми, невнятными мыслями, осмеянные иронией судьбы, пошли они мимо богатых, блестящих витрин Петровки…
К вечеру они сидели в «низке». Это укромный уголок в подвальном этаже вблизи Александровского вокзала, с крупной надписью «Сапожный мастер». В первой комнате сидел здоровый армянин, лет тридцатипяти, выпроваживая ненужных заказчиков
— Заказам много, не бером, — говорил он густым басом.
За «сапожной мастерской» шли кабинеты, перегороженные тесом, с керосиновыми лампами, и темный коридор с такими же дощатыми загородками.
Наташа с Ирой устроились на видном месте, чтобы не пропускать гостей, и угощались спиртом. С наступлением сумерек парочки и одиночки быстро наводнили притон. Публика задерживалась недолго, — новые лица быстро сменяли одни других.
— Эй, хозяин! — приоткрыв дверь, крикнул парень. — Дай нам еще одну.
Одет он был в поношенный коричневый костюм, волосы куделями торчали впереди. Это был Сашка. Наташа по голосу узнала его и бросилась к нему навстречу.
— Саша, ты ли это?
— Я, — тихо ответил он, присматриваясь.
— Помнишь Наташу? — воскликнула она и, покачиваясь от охватившего ее волненья, схватила его за руки.
— Так это ты? — сжимая ей руки и оглядывая с ног до головы, спросил Сашка. — А та кто, что с тобой?
— Ира. Ты знаешь ее, — на дело вместе ходили.
Он, казалось, растерялся и не знал, что им сказать.
— Ну, пойдемте.
Взяв их под руки, он повел в кабинет. При входе вынул мятую бумажку и, сунув в руку сидевшей девушки, весело заговорил: «Ну, теперь ты ступай, я своих встретил». Через минуту было подано вино, а за ним полились расспросы. Рассказала ему Наташа, как она рассталась с Катюшей и куда попала сама. Сашка с удивлением смотрел на нее и думал: «А я боялся поцеловать, сберег для чужого дяди»…
На ночь Сашка увел их в развалины и, одурманивая себя прошлым, думал о новом счастье с Наташей в родном селе.
Г лава XVII
В пути.
В полном разгаре наступала весна. На полях зазеленела кучерявая, шелковистая озимь, лес покрылся молодой листвой и разливал аромат. По кустам, взъерошивая серые перья, перелетали воробьи, как бы ища прохлады. Внизу, за порослями тупых холмов, изгибаясь голубоватой лентой, протекала река, гладкая, сильная и могучая, ласкаясь к берегам, окаймленным кустами ракит и отцветающей вербой.
Над крутым берегом, свесив ноги, сидели Аста шка и Катюша, устремив свой взгляд в голубую даль, куда, змееобразно вытягиваясь в густом лесу, тянулась проселочная дорога. Невдалеке от них лежал Кондрат, уставший от тоски и гнетущей его болезни. Сегодня шесть дней, как они покинули Москву, перебираясь в другой город. Теплые лучи падая на белокурую головку Кати, золотили грязные волосы. Глаза Кати были задумчивы, что наводило уныние и на Асташку, который, опустив голову, сидел задумавшись. Кондрат, приложив к уху ладонь, прислушивался в сторону ребят, как бы собираясь рассмотреть, что они там делают. Потом менял бок, ощупав землю ладонями, часто курил, подолгу кашлял и тяжело вздыхал. Его старый кожух с густыми сборками, который он называл «епанчей», теперь казался ему тяжелым и душил его.
— Дедушка, пароход идет, — радостно вскричала Катя и стала прыгать на берегу.
— Ну, и пусть его; он нам не попутчик, потому, до Саратова, ай до Самары не довезет, — вяло ответил старик. — Чайку бы теперь согреть, вот это другое дело.
— Давно ли пили? Ты чиво это, дедушка! Гляди еще и старый не остыл, — недовольно отозвался Асташка.
— Кашель меня душит, — надо быть, бронхит, потому, харкотины много стало отходить, а горяченького хлебнешь, гляди, и отхлынет немного.
Асташка тяжело поднялся, оттолкнул Катюшку от берега, пошел за водой.
— И я пойду, подожди.
— Куда еще тебя понесет? хворост собирай! Вернусь, огонь разводить буду.
— А я туда хочу, к воде.
Асташка пригрозил пальцем и она, недовольно отвернувшись, пошла вдоль деревьев…
Через четверть часа горел костер; сучья, потрескивая, прятали котелок в сизой кудели дыма. Асташка долго молча стоял над стариком, боясь спросить, что случилось, Перед ним, сгорбившись в клубок, лежал Кондратий. похожий на большой серый камень, обросший мохом, и тяжело дышал. На губах его и на земле горела кровь алая и коричневатая, как махровый мак, разбросанная плевками.
— Дедушка, вставай–котелок уже давно вскипел, — нагнувшись над стариком, сказал Асташка.
Кондрат часто замигал глазами, всосал в себя воздух и, подобно кузнечному меху, постепенно выпустил дух.
— Тяжко мне, Астаха, тяжко! Грудь во как сдавило, будто конец пришел, — прошептал он и вытянулся.
— Выпей чайку, горячий, хороший. Сам сказывал, — вот и отвалит от груди, значит.
— Верно оно, а все ж вода. Винца бы теперь, штоб харкотину отодрало.
— Хочешь, побегу. Те, что встретили нас, сказывали, что тут за леском село будет.
— Потерплю, Астаха, — нешто найдешь тут чиво–нибудь, глушь этакая. Давай чайку…
Пока они пили чай, солнце, опускаясь за горы, начинало быстрее исчезать, как бы вбираясь в землю. От леса легли тени и ветерок с реки потянул сырую прохладу- Катюша, подогнув ноги, сидела у костра и, что–то мыча себе в нос, всматривалась в угли, которые то вспыхивали жаром, то начинали темнеть. Полная грудь реки задернулась синевой морщин, нахмурилась и как бы от злости почернела. Только вдали, по широкому ее разливу, слабо горели живые краски заката. Розовый клин бронзового неба бледнел. Широкий круг распластавшейся степи начинал суживаться, и горизонт подходил к ней вплотную. Стало сыро и холодно.
У догоревшего костра молча лежал Кондрат; его лицо теперь становилось еще бледней и густые складки морщин, казалось, глубже избороздили широкий лоб и глубоко впавшие щеки.
— В деревню бы теперь, дедушка, — заглядывая ему в лицо, сказал Асташка.
Старик немного помолчал, потом, ловчей засунув руку под голову, нерешительно ответил:
— Не дойти мне: холки страсть как болят с икрами — будто шилом кто наколол. Чуть отекли они, да и голова тяжелей стала, клонит к земле, верно, она, земля–то, к себе зовет. — Старик тяжело вздохнул и часто замигал глаз ми, как будто нарочно выжимал слезы, чтобы напугать ребят.