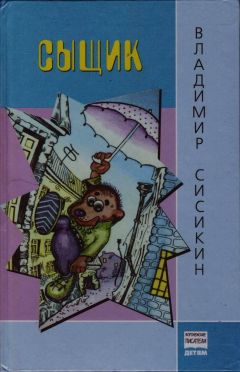— Вдруг? — переспросил Юра и не узнал своего голоса. — Но тогда на автобусной остановке… Ведь это было уже, когда мы… И в тот самый вечер…
Голос просто не слушался его. Что он лепечет? Ерунду какую-то. Как мальчишка. Ну, да — ерунду. Значит, все, что было до этого дня — ерунда? Не имело цены? Все в нем сжалось. Стало холодно. Ну, вот и все. Неужели все? Встать и уйти. Уйти? Но Юра даже не шевельнулся.
— Куда ты ушел? — вдруг сказала Майя. — Где ты? — повторила она с тревогой.
Не надо, подумал Юра, может, она просто не понимает. Да, но дело не в этом. Наверно, у нее не так, как у меня. Росло постепенно, а она говорила «нет», но не могла противиться и выискивала всякие «нет». Может — так. А может — и не так…
— Я сказала что-то не то, да? — лицо у нее было растерянное, несчастное.
Юра молчал.
— Понимаешь, я говорю тебе, как себе… Как это объяснить… Потому что мы одно — понимаешь?
Вот как бывает. Совсем не так, как казалось минуту назад. И секунды, когда все тихо плывет, и ничего не надо, уже не повторятся. Ничего, видно, на этом свете не повторяется. А теперь начиналось другое. Наверно, это и есть жизнь — настоящая, а не придуманная, где будет все: горечь, сомнения, ошибки. И она со всем этим будет с ним. Открытая и безжалостная в своей искренности. Та, что так много может понять. И без слов знать, что происходит у тебя в душе. А может быть и глухой, слушать только себя, то, что в ней. Мы еще хлебнем, подумал Юра. А она будет с ним. И он будет видеть ее, когда она просыпается и когда вечером приходит домой. И черт знает что будет думать, если она задержится.
— Ну, вот. Теперь ты пришел. Теперь ты здесь. Со мной, — сказала Майя, вглядываясь в его лицо. — Только больше не уходи. Никогда не уходи, ладно?
***
Майя долго, дольше обычного, плескалась в ванной и одевалась. Инстинктивно она все отдаляла ту минуту, когда выйдет на кухню и увидит мать.
Сегодня она должна все сказать. Сегодня — больше оттягивать нельзя. Боясь, что смалодушничает и на этот раз, Майя нарочно отрезала все пути к отступлению — пригласила Юру к обеду. Пусть ее судят. Пусть говорят, что хотят. Пусть. Она готова ко всему. Все порвать. Уйти из дома. Уехать. Все что угодно — лишь бы быть с Юрой. Да, уехать. Другого выхода нет — никто не простит ей предательства по отношению к Севе накануне свадьбы с ним. И мама не простит. И — Валька.
Эх, Сева, Сева, свет в окошке для мамы, Валькин верный друг, он, может быть, единственный, кто ее поймет. Они могли не разговаривать — он знал, о чем она думает. Он только и поймет, что иначе она не может.
— Я не знала раньше, что это такое, когда говорят — счастье. Только думала, что знала. А теперь знаю. Это нельзя объяснить.
— Конечно, легче объяснить, что такое несчастье, — скажет Сева и попробует улыбнуться и заговорить о другом.
— Мне было спокойно с тобой, легко, а теперь когда думаю о Юре, страшно — вдруг все оборвется?
Она должна ему это сказать и еще другое — и он поймет.
…Юра рассказал, как прошлым летом он провел месяц в избушке на озере, и я представила себе, как мы с Юрой идем по берегу, и садится солнце, и нет ветра, и так тихо.
Я хочу с ним ходить по траве, вечером читать, когда он стучит на своей машинке, и что-то спросить у него, самый пустяк, и услышать ответ, и покупать для него рубашки, и стирать.
Вчера я рассказала про эту избушку своей подруге и плакала, потому что не знаю, что будет с нами, хватит ли у меня сил выдержать все, что начнется потом, когда узнают мама и Валька. Я знаю, что принесу тебе несчастье, но я не могу по-другому. У меня не будет другой жизни. Она одна…
А если бы она сама услышала такое от Юры? — вдруг ужаснулась Майя.
Что бы там ни было, лучше так. Все равно — лучше так.
Еще мне скажут: если ты так легко зачеркиваешь годы дружбы с Севой, то от тебя всего можно ждать. Сегодня Юра, а через месяц? Нет, ни мама, ни Валька не скажут — будут молчать и осуждать в душе и избегать встречаться взглядом. Хуже всего, что будет именно так.
Майя представила себе лицо матери, когда она узнает. Будто со стороны, Майя увидела, как мать посмотрит на нее, еще не понимая, не веря, а потом опустится на стул и будет долго молчать, и согнется, словно ее придавили, и станет совсем маленькой. А потом — даже страшно было подумать, что будет потом.
Лучше ни о чем не думать и стоять так под теплым дождиком — долго, долго. Дождик, дождик, перестань… Как Сева тогда радовался дождю — теплому, мягкому, веселому, первому в июне; как мчался через улицу, крепко держа ее за руку, а в воздухе стоял звон, и возле тротуаров пенились ручьи, и вода в лужах пузырилась, потому что капли были тяжелые, крупные, быстрые — она вымокла в одну секунду. Они вбежали под арку, там была толкотня, все были мокрые, но настроение приподнятое — этот дождь среди бела дня словно объединил всех. Она увидела близко от себя лицо Севы, по которому текли большие капли, его мокрые, потемневшие, сбившиеся на лоб волосы, смеющиеся, счастливые глаза и сказала «да», не сказала — подумала, но он сразу понял и сжал ее руку.
Сева уехал на следующий день, но они успели обо всем договориться и все решить. И сказать маме — а она только и ждала этого, и так радовалась. И все эти месяцы жила этим и радовалась. Жила своей радостью и хлопотами…
Ну, а для Вальки все было давно решено. Как они любят устраивать жизнь других людей по своему усмотрению. И Валька. И мама, которая убеждена, что только одна знает, как сделать, чтобы ее Майя была счастлива. Конечно, ведь только она знает, как надо жить, и никогда не допустит даже мысли, что ее Майя может думать по-другому. Для мамы это было бы просто предательством. Предательством всей ее жизни. Да и для Вальки — тоже. Он ведь рыцарь без страха и упрека.
А действительно, так — без страха и упрека. Рядом с Валей Майя всегда чувствовала себя в чем-то виноватой. Когда-то ей очень хотелось стать такой, как он. Ни в чем не отступаться от своего слова. Чтобы и ей нельзя было солгать, даже в самой малости.
Она очень старалась. Завела дневник, казнила себя за малейшее отступление от правил «жизни и борьбы», которые сама сочинила. Тогда ей было лет пятнадцать…
Майя улыбнулась своим мыслям — все-таки хорошее было время. Хорошее. Чистое.
…Мама погасила свет и ушла, и теперь наступало самое главное. Надо еще дождаться тишины, чтобы все улеглись и не слышно было ни шагов, ни звяканья посуды на кухне. Чтобы в целом свете была тишина — тогда кажется, что тебя слушают все, весь мир. На стене, напротив окна, дрожит слабая полоска света. Если долго смотреть на нее, она меняется — похожа то на лису с длинным хвостом, то на ползущую змею. Голубые тени пробегают по потолку. Теперь надо закрыть глаза и ждать, пока зазвенит в ушах. И тогда вспоминать все, что случилось за день. И судить, как будто не себя, а кого-то другого…
Может быть, с той поры она научилась прислушиваться к себе, к той струнке, которая никогда не звенит фальшиво — вот как сейчас, когда она звенит, и, значит, Майя права. Все равно права, что бы ни думали мама и Валька. А ведь он должен бы уж приехать. Он — и Сева. И писем давно нет. Не случилось ли что?
Но Майя отмахнулась от этой мысли — не хотела, боялась сейчас думать о несчастье, обо всем, что могло бы помешать им. В конце концов экспедиция — не курорт, там писать некогда. А то и неоткуда. Приедут, приедут мальчики, живы и здоровы.
Приедут — что же тогда будет?
Причесываясь у зеркала, Майя механически делала все, что полагалось, уложила волосы, подкрасила глаза. Как это бывает, она видела и не видела себя. Знакомое лицо, отраженное в зеркале, не трогало ее, словно было чужим, как лицо человека, не вызывающего любопытства, которого каждое утро встречаешь на автобусной остановке.
Закончив свой туалет, Майя отодвинулась от зеркала, чуть повернула голову и бросила последний, оценивающий взгляд. Все в порядке. Пожалуй, даже хорошо. Но нужно было сделать усилие, чтобы выйти, встретиться с матерью, сказать ей, и Майя медлила. Лицо, в которое она теперь вглядывалась, было словно чужим. Оно завораживало и притягивало. И чем пристальнее Майя всматривалась, тем больше вместе с привычным в нем открывалось что-то новое, неизвестное, вызывающее острый интерес.
Какая же я?
Крупные черты лица. Скулы слегка выдаются. Большой рот, большие, чуть продолговатые глаза, с тенью от густых ресниц. Темные волосы с прядью, спадающей на лоб. Если поднять и немного повернуть голову, видна легкая и чистая линия лба, подбородка, шеи. В темно-карих глазах мерцает непонятная глубина. Что там, в этой глубине?
Допустим, это — не я. Что-то, пожалуй, есть в этом лице, какая-то необычная привлекательность. Нет, другое, притягивающее, даже не скажешь — что.
«Так это — я? — подумала Майя. — Какая же я? А вдруг Юра придумал меня? И я совсем не такая, какой ему кажусь?»