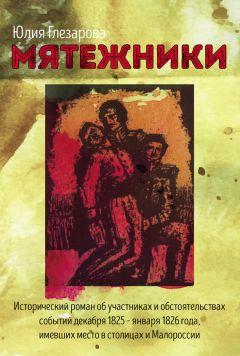Дети окружали постель Анны Семеновны. Сережа стоял на коленях у ее изголовья и держал ее руку.
— Мама, я здесь, — шептал он. — Я здесь…
И он чувствовал, что мать отвечает ему еле заметным пожатием исхудавших пальцев.
— Где Ипполит? — вдруг проговорила Анна Семеновна, беспокойно задвигавшись.
Матвей взял Ипполита на руки и поднес его к матери. Она прикоснулась к его волосам пальцами. И тотчас голова ее завалилась назад. Наступила тишина. Доктор пощупал пульс и печально кивнул головой. Анна Семеновна была мертва.
Лизонька, старшая дочь, остановила стрелку больших часов на камине. Было пять часов пополудни.
Иван Матвеевич с рыданиями бросился вон из комнаты. По дороге он упал. Он бился в истерике на полу. Его большие круглые очки разбились. Доктор вместе с дворецким Фернандо перетащили его на диван в соседнюю комнату. Фернандо принес стакан воды. Доктор совал в нос какие-то капли. Иван Матвеевич отталкивал стакан с водой и расплескал лекарство доктору на жилет.
— Рок тяготеет над нами! — выкрикивал он среди рыданий. — Узнаю его зловещую руку!
Катя, стоя на коленях, целовала руки отца. Все столпились около него и старались успокоить.
Отец утих. Он откинулся в изнеможении на спинку дивана.
— Будем покорны судьбе, — говорил он, закрывая глаза. — И да свершится воля неба!
Дворецкий Фернандо подобрал осколки очков и, осторожно ступая, вынес их прочь на совке.
На высоком берегу Псла, в Полтавской губернии, среди пестрых холмов и песчаных оврагов раскинулась деревня Обуховка, имение поэта Капниста. Господский дом белеет на горе, окруженный чащей дубов и каштанов. По склону горы, до самой реки, идет сад. Спуск к реке обсажен с обеих сторон кустами роз. Старый Капнист очень любит цветы.
У самой реки, в тенистом уголке, стоит маленькая сельская хатка с соломенной крышей. После обеда, отдохнув на диване в гостиной и выпив чашку кофе, Капнист, в сереньком фраке, в летней фуражке и с тросточкой, спускается вниз по аллее, обсаженной розами, в свой уединенный игрушечный домик. Он курит здесь трубку и пишет стихи.
В другой стороне сада, на лесистом уступе, высится круглый деревянный храм с толстыми колоннами, выкрашенными в голубую краску. Это «храм умеренности». Его выстроил monsieur Асселен — архитектор и повар, смешной старичок, которого Капнист приютил у себя.
Василий Васильевич Капнист пользуется славой человека свободного образа мыслей. Все знают его комедию «Ябеда», где он так жестоко бичевал неправосудие и произвол. В своей «Оде на рабство», написанной еще в дни молодости, он смело выступил против самой императрицы Екатерины II, которая закрепостила вольных украинских поселян и одним своим царским словом из счастливых людей сделала несчастных — превратила, как он писал в своей оде, «ясный день в мрачную ночь». Никогда не откажет Василий Васильевич крестьянину, хотя бы и чужому, в помощи и совете. Случится ли какая беда — падет ли корова, заберут ли сына в рекруты не в очередь, наедет ли заседатель за недоимкой и ограбит дочиста, — все идут к «пану Василю». Перед крыльцом господского дома в Обуховке постоянно можно видеть крестьян, приходящих толпой с жалобами на притеснения. Капнист расспросит каждого с живым участием и тотчас обращается к высшему начальству — к генерал-губернатору или прямо в Петербург.
Как-то зимою, проезжая по одной из окрестных деревень, он увидел крестьян в рваной одежде, привязанных к колодам на дворе… Он тотчас выскочил из саней и призвал старосту.
— Что тут такое? — горячился он. — Держать людей на морозе!.. Кто посмел?..
— За недоимки, пане, — оправдывался староста, — за недоимки. Исправник наказав…
— Я тебе покажу — исправник! Отпустить, всех отпустить сейчас же! А не то…
Староста послушался. Ему ведомо было, что все в окружности боятся «пана Василя», у которого много высокопоставленных друзей в самом Петербурге. И действительно, вскорости исправник, по настоянию «пана Василя», лишился места.
В двадцати верстах от Обуховки находится Бакумовка, имение Ивана Матвеевича Муравьева-Агюстола, полученное им от его бездетного двоюродного брата Данила Апостола, внука знаменитого украинского гетмана. Тогда же Ивану Датвеевичу дозволено было присоединить к своей фамилии фамилию своего деда по матери — Апостол. Он очень гордился своим украинским происхождением и любил повторять, что душа у него двойная: как Муравьев он русский, как Апостол — украинец. «Мы все одного славянского племени, — говорил он сыновьям. — Украинцы и русские — братья родные».
Муравьевы часто ездят в Обуховку. Иван Матвеевич с девочками приезжает в новенькой коляске, а Матвей и Сережа сопровождают их обыкновенно верхом. Обе семьи связаны давней дружбой.
В Обуховке время летит незаметно. Когда бывают гости (а в Обуховке всегда гостит кто-нибудь), затеваются прогулки на лодках куда-нибудь по реке. Вперед высылается прислуга с коврами, посудой, чаем, пирожками и другими припасами. На месте остановки обыкновенно уже ожидает толпа любопытных крестьян. Они держатся на почтительном расстоянии и переминаются с ноги на ногу — смотрят, как паны веселятся.
Жарко. Блестит на солнце и переливается серебристыми искрами быстрый Псёл. Матвей, Сережа и сыновья Капниста, Семен и Алеша, только что выкупались и едят с аппетитом. Старый Капнист после закуски заигрывает с девушками и вызывает их поплясать. Те жмутся, упираются и в смущении прикрывают лицо рукавом. Наконец какой-то хмурый старик с всклокоченными волосами выталкивает вперед одну из девушек, пригрозив ей костылем, и та, пугливо озираясь назад и путаясь босыми ногами в высокой траве, застенчиво начинает плясать. Крепостной музыкант с глазами навыкате играет на скрипке, а старый Капнист подтанцовывает на месте и прихлопывает в ладоши. Сережа пристально глядит на милое, розовое лицо девушки, и ему становится почему-то неловко. «Рабыня… — думает он. — Она танцует для потехи господ». И ему досадно, что добряк Василий Васильевич Капнист, автор «Оды на рабство», не замечает во всем этом унижения человеческого достоинства.
Возвращаются при луне. Лодки бесшумно скользят мимо залитых лунным блеском песчаных обрывов берега. По бортам журчит вода, а в задней лодке играет на скрипке крепостной музыкант. Луна, музыка и журчание воды — все это полно очарования, а Сереже почему-то грустно. Он хмурится, сдерживая слезы. Тогда Соня, черноглазая девочка, дочь Капниста ласково трогает его за плечо и шепчет:
— Что с вами, Сережа?
Лодки причаливают к пристани. Мерцающие на горе огни освещенного дома зовут наверх — туда, где гостиная уже готова для танцев. Семен, старший сын Капниста, садится за клавесины. Матвей приглашает Соню, Алеша вертит Катю Муравьеву, а Сережа думает о том, какая разница между этим вольным весельем и подневольными танцами там, на берегу.
Как будто целые годы отделяли Сережу от времени его учения в Париже. Пансион Гикса, где он восхищал всех своими стихами на латинском языке, голубоглазый Анри, Наполеон — все это было когда-то давно-давно. Теперь перед ним была не та Россия, в праздничном одеянии, которая занимала его воображение, а Россия настоящая — в ее рабском, нищенском виде. Но он любил и эту Россию — и, может быть, даже еще сильнее, чем раньше, потому что видел, что она несчастна.
— Будем любить отечество таким, как оно есть, — говорил он старшему брату, когда тот предавался отчаянию. — А если око несчастно, то мы все силы посвятим для того, чтобы избавить его от несчастья. Не правда ли, Матюша?
Новые впечатления нахлынули в его душу, когда он освоился с русским языком и начал читать русские книги. Он находил здесь свое, русское, родное, что действовало на него особенно глубоко, так как выражено было в свежих для него звуках русского слова.
Он и Матвей знакомились с русской стариной по сочинениям Михаила Никитича Муравьева, недавно умершего своего дяди. Они оба плакали над «Бедной Лизой» Карамзина и рисовали себе картину древней новгородской вольности по карамзинской «Марфе-посаднице». Вольное новгородское вече, где каждый имел право голоса, представлялось им в радужных, поэтических красках.
Матвей любил мечтательные баллады Жуковского, а Сережу привлекали больше суровые стихи Державина с их мужественной правдой и гражданским пафосом. Гуляя иногда один по зеленой степи, окружавшей Бакумовку, он с чувством декламировал полные благородного гнева державинские строки, обращенные к «земным богам» — «властителям и судьям».
Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мглою очеса!
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса!
И он поднимал кверху руку со сжатым кулаком, как 6ы угрожая кому-то.