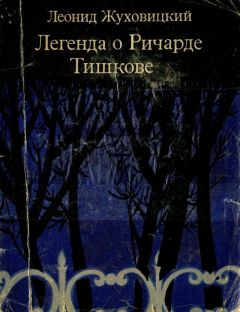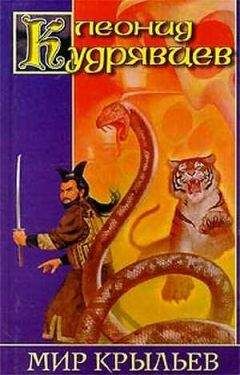— Человек должен быть человеком, — сказала Валерия. — Даже Маркс говорил: «Ничто человеческое мне не чуждо».
— Я не гений, — возразил Сергей.
— Оно и видно, — небрежно отозвалась Валерия.
И это неряшливое подобие остроты окончательно убедило его, что все кончено. Валерия презирала банальности, как грязное белье, и никогда раньше не позволяла себе так распускаться при нем.
В отделении, состоявшем из двух палат, операционной и бокса, жизнь шла своим чередом. В операционной готовили кровь для переливания. В одной палате лежали шестеро мужчин, в другой — четыре женщины. В боксе, маленькой комнате со стеклянным тамбуром при входе и собственным санузлом, лежала девочка, с головой накрытая простыней.
Она еще принадлежала клинике, еще составляла одно целое с историей болезни и определенным сектором работы — уже не лечебно-научной, а просто научной. Но еще больше она принадлежала вечности, родителям, извещенным осторожной телеграммой, земле, по которой не прошла и пятой части отмерянного ей природой пути.
Вчера еще у нее было имя — Ниночка, был возраст — одиннадцать лет. Но к двум часам ночи она полностью пробежала всю свою дорожку из небытия в небытие, и часы, забытые сиделкой на подоконнике, отсчитав последние секунды ее жизни, начали отстукивать несчетные, уже безразличные ей века.
А на улице было ясно, позванивал легкий морозец. Сергей, вернувшийся ночью, мог бы его и не заметить, но, торопясь парком к институту, почувствовал, что скользко ногам. Он посмотрел вперед. Заснеженый Ту-114 на рекламном плакате был освещен солнцем и блестел как елочная игрушка.
В ординаторской, подавая ему халат, санитарка сказала:
— Слыхали, Сергей Станиславович, Ниночка-то умерла.
— Когда? — спросил он и не сразу надел белую, ломкую от крахмала шапочку.
— Ночью, в два, вроде. Зина дежурила.
— Она еще в боксе? — спросил он автоматически, как спросил бы о любом другом.
— В боксе.
Он прошел в бокс, аккуратно, хотя в этом не было необходимости, прикрыв за собой обе стеклянные двери, и приподнял простыню. И в сотый раз потрясла и оскорбила нелепая закономерность, с такой циничной быстротой превратившая теплое, мягкое в движениях, каждым дыханием удивительное тельце — в тело. Девочка была уже чужая, неподвижная, на желтой коже проступали фиолетовые пятна.
Он вышел из бокса, вновь аккуратно прикрыв за собой обе двери. Он и дальше все делал аккуратно и правильно, но как автомат. Терять человека всегда тяжело, а потерять эту девочку было тяжело втрое.
Как палатный врач он вел ее уже больше года, привык к ней, привязался и, как ни странно, уважал больше, чем кого-либо из взрослых больных. Старик Лимчин, профессор из земских врачей, любил повторять, что клинические больные — солдаты науки. Эта малышка была хорошим солдатом. В клинике она освоилась быстро и не терпела, а просто жила. Она была спокойная, общительная девочка и плакала куда реже, чем ее здоровые сверстницы, а если плакала, то не с целью, а для себя — Сергей ни разу не слышал от нее расчетливого, с повизгиванием, рева. Она честно глотала таблетки и терпеливо, даже приветливо протягивала навстречу шприцу худенькую, с исколотыми венами руку. Эта малышка была человеком, она умела радоваться, умела даже в голой белой палате. Летом радовалась солнцу, а зимой — снегу, а в дождь радовалась, что дождь. Радовалась даже больничным котлетам, даже щекотке от холодного прикосновения стетоскопа к груди…
Эта девчушка была надежным товарищем в работе, они боролись вместе, она делала все, от нее зависящее, и не обманула до самого конца: она жила, жила упорно, жила, пока оставалась хоть какая-то возможность, жила до предела, до краешка…
Он сказал несколько слов санитарке и прошел в ординаторскую. Он услышал, как звякнули колесики о кафельный пол, и подумал, что дорожку надо придвинуть к самым дверям. Потом колесики звякнули еще раз — санитар катил тело в секционную. Маленькому солдату науки предстояло выдержать последний бой — вскрытие, пробы, срезы. Потом толстая тетрадь с подколотой пухлой пачкой анализов вырастет еще на несколько листков, переместится в особый шкаф и из истории болезни окончательно станет историей смерти…
День был обычный, нормальный рабочий день. И Сергей работал как обычно — пятиминутка, обход, внеплановая операция — заместительное переливание крови, затем виварий, лаборатория.
Но работалось плохо, разболтанно — девчушка, целый год так здорово помогавшая ему, сегодня мешала. На обходе в женской палате мешало, что четыре постели вместо пяти, и до озноба странно было проходить мимо пустого бокса… Он не любил говорить, не умел шутить с больными, только к этой девочке подходил обычно с шутливой фразой. И сегодня целый день мешала эта не сказанная фраза.
А после двух, в лаборатории, неожиданно без всякого повода он вдруг почувствовал, как слезы с силой давят на глаза. Заслоняясь ладонью, он быстро прошел в пустой кабинет заведующего, сел спиной к дверям и, прижав трубку к щеке, слушал непрерывный гудок, пока спазмы не отпустили горло.
Уже перед концом ему сказали, что мать девочки ждет в приемной. Он продиктовал толстенькой лаборантке все, что нужно было записать в журнал, и пошел к выходу. Он еще не знал, что скажет этой, мельком виденной несколько раз женщине и как «подготовит» ее к тому, о чем она не может не догадываться.
Он никогда не умел «готовить», любая нянечка сделала бы это лучше, но забота о родственниках по должности полагалась ему.
Женщина ждала в приемной, маленькой комнатке, где всегда стоял графин с водой и, в особом шкафчике, пузырьки с валерьянкой и нашатырем.
Но на этот раз к нашатырю прибегать не пришлось. Женщину «готовили» уже больше года, с момента, как подтвердился диагноз, так что, получив телеграмму, она сразу поняла, в чем дело, и выплакалась за дорогу. Она уже знала все, что он должен сказать, и, в ответ на первые же его, еще безликие фразы, горестно и покорно кивнула.
Он замолчал и опустил голову.
— Когда можно ее забрать? — спросила женщина.
Он ответил. Он хотел сказать, какая она была хорошая девочка, просто замечательная, он больше не видел таких, но вовремя сдержался. Не сейчас об этом говорить…
Женщина ушла, а он все сидел в голой комнатушке с кушеткой, графином, валерьянкой и нашатырем и все говорил с ней, все пытался объяснить, что девчушка эта ушла не только от матери, но и от него, что он с радостью отдал бы ей три года собственной жизни, не для слова, а вправду отдал бы, да вот нельзя, смерть в игрушки не играет…
Он поднимался по лестнице в клинику, с этажа на этаж, и все думал, как паршиво, как нелепо получилось: ведь хотел, ведь клялся себе быть с ней до самого конца, самые трудные часы, а вот не вышло, умерла ночью, пока он спал в поезде, и теперь уже ничего не вернешь, непоправимо, виноват перед ней навсегда…
Он перебирал бумаги в ординаторской и думал, что вот и перед Валерией виноват, и перед мальчишкой, имени которого ему так и не сказали… И перед матерью виноват — уже два года не ездил к ней, закрутился… Валерия верно сказала — робот, кибернетическая машина, вся его жизнь как тетрадный листок в клеточку…
Он перебирал бумаги в ординаторской и думал: ну, а как быть? Работать — надо. И литература по специальности — надо. И эксперимент есть эксперимент, тут уж как ни крутись, а два вечера в неделю — отдай. И язык — надо, без языка нельзя. Говорят, у других получается. И он раньше так мечтал: быть культурным врачом, гармонично развитым человеком — и наука, и искусство, и спорт. Мечтал, а вот не выходит. Другие могут — наверное, они способней, или работа позволяет, не так торопятся. А ему гнать и гнать, пока сил хватит, никуда не денешься, люди-то умирают…
Он перебирал бумаги в ординаторской и думал: вот Валерия сказала, что он, наверное, и работу не любит… Любит… Да за что ее любить, такую работу? Вот уже шесть лет, седьмой пошел — и никакого просвета! Смерть за смертью… Дохнут мыши. Умирают собаки, судорожно подергивая лапами, мучая глазами лаборанток. И люди… Шесть лет — и хоть бы один больной ушел отсюда на своих ногах! Любит… Да к чертовой матери ее, такую работу, плюнул бы на все, убежал бы и оглядываться не стал…
Он сидел в ординаторской и теребил бумажки. Он знал, что никуда не убежит, никуда он не денется, потому что люди умирают, а он врач и знает эту болезнь, не много знает, но больше, чем другие. Никуда он не уйдет, потому что он — робот, а для дела это полезно: его данные всегда безукоризненны. А главное, даже шесть лет неудач для нормального человека многовато, а тут — болезнь Вольфа, и надо рассчитывать себя надолго, может, на всю жизнь… Заглянула сестра и сказала, что в операционной все готово. Он кивнул, аккуратно сложил бумаги в стол и шагнул к двери.