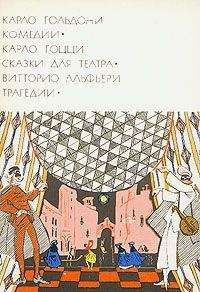Мне грустно, и я слышу, как на мраморный камин с глухим шумом падают один за другим листки большего букета пионов; а над и под моей комнатой взрыв женского смеха.
Я бы хотел иметь комнату, затопленную солнцем, мебель, старые портьеры, все цвета которых полиняли и как бы прошли под южными лучами. Там жил бы я в золотых грезах, с разогретым сердцем, с умом, купающимся в свете, в тихо напевающем покое…
Странно, что, по мере того, как старишься, солнце делается особенно дорого и необходимо, умираешь, прося растворить окна, чтобы оно закрыло тебе глаза.
Декабрь 185…
Я был в первый раз в ратуше. Тогда я видел там в зале Сен-Жана февральских убитых, очень чисто набальзамированных и в кисейных рубашках. Я был в ратуше во второй раз. В этот второй раз, в той же зале я стоял совсем голый, я надел на себя синие очки, но совет осмотра, найдя меня слишком хорошо сложенным, чтобы быть близоруким, назначил меня большинством голосов в гусары. Я пошел в ратушу в третий раз, сегодня вечером, на бал. Убранство богато и вместе с тем бедно; золото – все великолепие зал и галерей; повсюду шелк, и мало бархата; всюду виден обойщик и нигде нет искусства; а на стенах, покрытых плоскими аллегориями, написанными Вазари, имени которых я не хочу знать, еще менее искусства чем в другом месте… Ах, галерея Аполлона! галерея Аполлона! Но восхищение двенадцати тысяч пар глаз, находящихся здесь, не очень требовательно. Что касается бала, это обыкновенный бал: толкаются и даже вальсируют. Тут я видел, как вальсирует учреждение такое же старинное, как генерал Фой: одни только воспитанники политехнической школы, порхающие в розовых и голубых газовых платьях.
Что меня всего более поразило, и что действительно прекрасная вещь, это чернильницы муниципального совета, похожие на сифоиды, их видно, они открыты для публики в эти торжественные дни. они монументальны, важны, сосредоточены, роскошны, представительны. они имеют в себе в одно и тоже время нечто похожее на египетские пирамиды, и на живот господина Прюдома; они похожи на состояние среднего сословия.
Чего я только ни писал изо дня в день в начале своей карьеры; эти жестокие и ужасные споры против анонима, все эти остановки в равнодушии или оскорблениях, эта публика, искомая и ускользающая от вас, это будущее, к которому я безропотно шел, хотя и часто отчаивался, эта борьба нетерпеливой и лихорадочной боли против времени и устарелости, одна из крупных привилегий литературы?.. И ни друзей, ни связей, все заперто!.. Это молчание, так хорошо организованное против всех тех, которые хотят попробовать пирога «publicité», эта грусть и раздражение, овладевавшее мною в продолжение долгих годов, когда я вызывал эхо, не будучи в состоянии научить его произносить мое имя!.. Ах! эта немая внутренняя агония, не имеющая других свидетелей, кроме уязвленного самолюбия и изнемогающего сердца! Эта однообразная агония, написанная в такую минуту, по горячим следам страданий, была бы прекрасным этюдом, которого, впрочем, никто не напишет, потому что ничтожный успех, прибыль несколько сотен франков, какая-нибудь статья по пять или шесть копеек за строку, ваше имя, известное сотне лиц, которых вы не знаете, два-три друга, немножко рекламы – все это вылечит вас от прошлого и погрузит вас в забвение…
Эти раздирающие слезы, эти страдания покажутся вам такими далекими, как далека ваша молодость. И вы вспомните о старых ранах только тогда, когда они раскроются.
Её появление – это взрыв смеха, её лицо – это праздник. Когда она в комнате, начинается радость и деревенские объятия. Полная женщина с белокурыми волосами, крепировавными и приподнятыми около лба, глаза с мягким выражением, полное, доброе лицо: полнота и величие рубенсовских женщин. После стольких тощих граций, стольких маленьких лиц, печальных, озабоченных, с нахмуренным челом, постоянно задумчивых и углубленных в измышление какой-нибудь хитрости; после всех этих уловок, попугаичьих приманок, ничтожного, нездорового жаргона, подобранного слово за словом в соре мастерских и в толпе; после этих маленьких надутых и доступных созданий – это деревенское здоровье, этот народный язык, эта сила, это радушие, это веселое и живое довольство, это открытое сердце с своими грубыми проявлениями и животной нежностью, все в этой женщине мне нравится, как хорошая простая деревенская пища после обедов в харчевне за тридцать два су. Затем, имея фламандский торс, она сохранила тонкие ноги Дианы Аллегренской, и ступню с длинными пальцами античной статуи.
Наконец человеку необходимы иногда некоторые грубости языка, особенно писателю, в котором материя, подавленная мозгом, отмщает за себя таким образом. Это её манера спускаться из корзины, в которую «Облака» заставляют влезать Сократа…
Я не настолько счастлив как те люди, которые носят в себе утешение постоянной веры, как фланелевую фуфайку, которой они не снимают даже ночью. Солнце или дождь заставляют меня сомневаться, или верить…
Загробная жизнь улыбается мне, когда я думаю о моей матери; но загробная жизнь безличная меня нисколько не соблазняет…
И вот я материалист. Но если я захочу уверять самого себя, что мои идеи суть столкновения чувств, что все, что есть умного или сверхчеловеческого во мне, ничто иное как мои чувства, высекающие огниво, тотчас же я становлюсь спиритуалистом.
Углубленный в книгу своего прошлого, Шарль не заметил, как настал день, и его слуга подал ему следующее письмо:
«Ферма Фелье, февраль 185..
Милое дитя мое!
Жизнь у нас все та же, какою ты ее знал. Только мои маленькие девочки и бедненькие племянницы, все мое маленькое семейство подрастает. Это веселые цыплятки на моей старой аббатской ферме: – они бегают, смеются, топочут, работают, потому что все они маленькие хозяйки, и, кончая самой младшей, составляют мне большую подмогу в моих работах. Знаешь ли ты, что в этот момент я имею пятьдесят работников, которые мне совсем не оставляют времени для шуток? Мы живем одни и сами с собою, и не чувствуем себя дурно.
Иногда сосед постучит в наши двери. Мы ему даем ужин и постель; гостеприимство то же, что и в твое время: своя говядина, свои овощи, своя рыба и даже вино домашнее, – ты морщишься? – Гостеприимство фермера или патриарха; а когда на другой день утром я вхожу с куропаткой или зайцем в моей охотничьей сумке и встречаю моих малюток, – нет, ты не знаешь, как они милы в их утренних костюмах, в кофточках, маленьком чепчике с прядью выбившихся волос около их полных щечек, – я нахожу их вооруженными большими лопатами и вытаскивающими из печи пирожные, но какие пирожные!.. Желаю тебе покушать такие! И всегда с любовью к труду, как славные крестьянские девушки, которыми они все-таки не могут быть, потому что мои девочки очень элегантны и изящны, как по наружности, так и по их цивилизованным душам. В соседних замках смеются немного над нами. Кое-где шутят над этими устаревшими привычками, над этой жизнью, которая такая не модная. Но в глубине души нас уважают и очень любят… Но что это я сказал тебе, что наш дом все тот же? – Величайшее событие свершилось после тебя: одним гостем более, который займет тебя. Помнишь ты г-на Рамо, отца Рамо, у которого спасался твой отец, чтобы идти на войну? Ты еще ребенком шалил у него целое лето! Что касается меня, я могу похвастаться, что бесил его десять лет, лучшие десять лет в моей жизни. Превосходный добряк-священник, со своим нервным типом, придававшим ему такую смешную гримасу и удивленный вид, со своей любовью в латинской науке и удивительной памятью! Гримаса, здравый смысл, латынь – все осталось при нем, так же, как и память здоровая, свежая и ясная, несмотря на его годы. Все тот же поклонник Вергилия. Это заставляет тебя вспомнить сад, неправда ли? Этот маленький сад вроде коллегии, где он возымел чудесную идею вырезать из старых деревьев лица Энеиды: Энея, Турнуса, Лавинию! Я вижу еще Лавинию, а ты? Я очень счастлив, что он здесь, потому что меня мучили почти угрызения совести при воспоминании о всех шутках, которые я сыграл с ним. Бедный дорогой учитель! Святой, которому только не хватило для этого призвания к мученичеству и отрешения от единственного маленького греха, чревоугодия, который он скрывал под именем лакомства, или вкуса к маленьким блюдам; он так добр и так невинен, что малютки, которых он учитель и папа-баловник в одно и то же время, окрестили его между собою божьей коровкой. Как они о нем заботятся!
«И так мой друг, – твоя семья здесь. Маленькие девочки хотели бы видеть тебя. Ничто не забыло о тебе. Дом ждет тебя, – а что касается хозяина… ты знаешь, у меня нет сына. Я люблю в тебе тех, которые уже скончались, – твоего отца и мать. Следовательно, я люблю тебя ради них во-первых, во-вторых – ради тебя самого, и наконец – для самого себя. Ты будешь свободен как гость, который у себя дома. Все, что ты не сделаешь – сочтут прекрасным. Ты найдешь библиотеку, увеличившуюся всеми книгами департамента, которые без сафьянных переплетов, без гербов, не значащиеся у Брюне, были оставлены мне злодеями парижскими букинистами, до сих пор все забиравшими; и вот моей спальной и кабинета не хватило для библиотеки; она сделала вторжение в соседнюю комнату, где сушат груши. Еще раз говорю, – все тебя здесь ждет: и сад, который видел тебя еще совсем маленьким, когда мать твоя носила тебя, – и маленькая роща, где я слышу еще мои споры с твоим отцом по поводу выборов. Как это старо уже! и как лучшие люди рано умирают! В эти дни я был в Сомрезе. Я должен был там поставлять рожь. Я едва узнал ваш старинный дом. Все переиначено: теперь тут фабрика напилков, штопоров. Сада больше нет; на месте знаменитого сливняка, дававшего так много слив для пирогов, – находится мастерская.