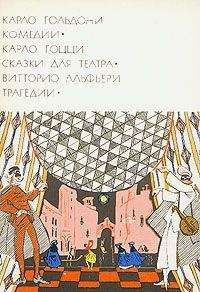– Вы ничего, значит, не знаете там, вы, стряпающие парижские новости.
– Что такое?
– Прекрасные партии, которых насчитывают в парижских кружках… как лошадей на скачках.
– О, о!
– Честное слово. По последнему счету в Париже в настоящую минуту находится пятьдесят восемь прекрасных партий. Пятьдесят восемь!
Шарль пришел в ту минуту, когда книга его была совершенно похоронена. Все его знакомые были очень любезны с ним, предлагали ему присесть с ними. Похвалили его панталоны. Говорили о последней дорогой безделушке, которую он купил, об одном из его родственников, которого чем-то где-то назначили. Но o книге его ни полслова; и когда, пробыв тут полчаса, Шарль встал, чтобы уходить, долгие и крепкие рукопожатия его приятелей как бы выражали сожаление и глубокое соболезнование, которое друзья чувствуют при несчастии или ошибке их друга.
Шарль вышел из кофейни Риша с предчувствием, что книга его встретит порицания со стороны критики, и он не ошибся. Среди критиков встречаются два сорта их: критики, стоящие ниже разбираемого ими произведения и критики, стоящие выше его. Первые хвалят или бранят, сообразно со своими способностями, своими взглядами, подчас добросовестно и под влиянием зависти. Вторые, более многочисленные, составляющие собственно критическую литературу, в настоящее время считающую в своих рядах наиболее талантов, занимаются ремеслом, почти всегда недостойным их, из-за определенной довольно высокой платы, и смотрят на него, как на единственный верный заработок, доставляющий солидное положение; подобные критики, стоящие выше сочинения, которое они призваны одобрить или осудить, понятно, не заботятся о том, чтобы следить за автором шаг за шагом, разбирать каждое его слово, одним словом, играть скучную и посредственную роль профессора риторики, поправляющего ученическое сочинение. Пусть не прощает им этого авторское самолюбие, но очень понятно, что они идут далее разбираемого ими произведения и, поставив в начале своей статьи его заглавие, на данную тему создают собственные, неожиданные импровизации: они словно играют Венецианский карнавал, вот их манера давать отчет; и публика не так глупа, чтобы сердиться на них за это.
Но, помимо этого вечного недостатка, неодинакового уровня мыслей критика и автора, критика в нашей стране и в наше время подвержена еще совсем особому злу. У нас во Франции нет, подобно Англии, больших уважаемых и влиятельных критических журналов, чуждых политических страстей и вносящих в литературный приговор полную беспартийность и высокий скептицизм чисто литературной критики, критики читателей и судей идейного искусства. Наша критика заключена в узкия рамки журнала, она более или менее придерживается его оттенка, его тенденций и если не его предразсудков, то его убеждений; поэтому она постоянно бывает вынуждена ставить на первый план не достоинство книги, а её дух. Ей не позволяется хвалить произведения враждебного лагеря и хулить произведения своего. Если в романе выведен герой – католик, критик свободомыслящего журнала признает роман отвратительным. Если герой – неверующий, критик католического журнала произнесет анафему не только роману, но и его автору; таким образом наша критика подвержена самому большому несчастью, какое только может существовать для неё: она является критикой партии и избранной партии, белой, красной, синей, смотря по тому, с высоты какой трибуны она говорит.
Книга Шарля столкнулась со всем этим. Книга под названием «Буржуазия», своим содержанием оправдывала свое заглавие и, быть может, бессознательно для него самого, касалась многих сторон общественного порядка; она проводила слышишь много общих взглядов, выказывала много тенденций; она заставляла читателя делать слишком много предположений, касающихся государственного строя; она затрагивала слишком много страстей, слишком много интересов целого класса, чтобы не быть общественным, а, следовательно, политическим романом. Одна партия должна была найти в нем неполную апологию своих идей, другая угадывала в нем презрение к своим взглядам. Великий вопрос французской революции, лежавший в корне его сочинения и служивший колыбелью того порядка, который он хотел изобразить, воодушевлял его произведение под холодною наблюдательностью и анализом. Тщетно он гнался и искал одной художественной правды, его книга являлась одним из тех сочинений, которые возбуждают полемику партий, не удовлетворяя ни одной из них.
И так, книга Шарля была встречена враждебно почти по всей линии. Красные, белые, синие соединились вместе, чтобы уничтожить ее. Это был хор ироний, нападок, насмешек и злости, едва сдерживавшихся в границах приличия, – а иногда и выступавших из них. Его пощадили только два критика высшего порядка: один по поводу его книги обрисовал вкратце историю буржуазных классов до Рождества Христова; а другой воспользовался случаем, чтоб набросать прелестную статью о буржуа, как изображался он Домье.
Выдержать подобную атаку, не дрогнув, было бы своего рода государственной заслугой в литературе. Но очень немногие способны на такой стоицизм; и если бы заглянуть в души самых сильных, даже тех, которые смеются в обществе, показывая, что не чувствуют ударов, то оказалось бы, что раны их внутри. Самые великие, самые славные, даже боги, еще при жизни овладевшие потомством, обезоружили бы, пожалуй, завистников, если бы показали, до какой степени они чувствуют удар пера какого-нибудь невежды, неведомого, и как капля чернил без имени, брошенная по их адресу, отзывается в их сердце!
Для впечатлительной натуры Шарля боль оказалась очень чувствительной. Он постарался утишить ее, на не смог. Неблагозвучные эпитеты, от которых он никак не мог отделаться, точно врезались ему в память и всюду преследовали его. Он ловил себя на том, что вполголоса произносил отрывки фраз, которые он хотел бы забыть. Он чувствовал в себе болезненную простоту, полное безучастие ко всему, и в одно и тоже время, отвращение и потребность к движению. Некоторые статьи, прочитанные перед обедом, производили спазмы в его желудке и совершенно лишали его аппетита, словно известие о каком-нибудь большом несчастии. Он чувствовал горечь и сухость во рту и впадал в отупение, всегда сопровождающее сильное потрясение организма, в котором не отдаешь себе отчета и предшествующее при больших нравственных страданиях излиянию желчи в кровь. Он подолгу просиживал в своем углу, боясь показаться, боясь отголосков, боясь своих друзей и стыдясь выказать подобное малодушие.
Однажды вечером, находясь в том состоянии печали, когда человек перестает управлять собой, подчиняет свою волю инстинкту и, вместо определенной цели, идет куда глаза глядят, Шарль очутился на том самом наружном бульваре, где, несколько месяцев перед тем, он задумывал и создавал свое произведение. Вся эта штукатурка, большие серые стены, грязные дома и убогие кофейни, эти тощие деревца, которые он узнавал, открывали его глазам и мыслям одно из тех чудных по воспоминаниям мест, где останавливаешься перед группой лип: здесь зародилась первая любовь! Идешь по песчаной дорожке, заросшей травой и ежевикой, и думаешь: далекое и дорогое отечество первой мысли и первого плохого стиха! В этом тенистом уголке, на этой кучке травы прочтен был первый опасный роман! Шарлю точно также улыбались эти жалкие бульвары. Его книга родилась тут, на этом самом грязном тротуаре! Перед ним возникали его образы, его усилия и восторги: у этого выступа стены он нашел такое-то положение; перед тем кабачком он встретил одного из своих типов; прогуливаясь взад и вперед мимо этого большего черного дома, он, наконец, нашел развязку к своему роману. Таким образом перед ним, делаясь все яснее и яснее в ночных сумерках, прорванных местами красноватым светом фонаря, проходили, словно в ночном смотру, один за другим, персонажи его романа, появляясь справа и слева, из дверей домов, из выступов стен, из мостовой, и Шарль, взволнованный прошлыми ощущениями, продолжал свою прогулку, когда из окон одного, темного сверху до низу павильона с палисадником, чей-то голос назвал его по имени.
Шарль поднял голову.
– Извините, – говорил голос, – на мне нет ни мундира, ни орденов… Но позвольте мне, несмотря на это, поздравить вас, милостивый государь: я читаю, т. е. вернее читал вашу книгу; так как свеча моя, как видите окончательно угасла… как поется в песне.
Тогда Шарль различил в черной рамке открытого окна бумажный колпак над рубашкой и рубашку под бумажным колпаком.
– Благодарю вас, – продолжал тот же голос, – вы доставили мне приятный вечер… даже возбудили маленькую лихорадку.
– Ах! это вы, Буароже… Мне сказали, что вы были больны; как вы себя чувствуете?