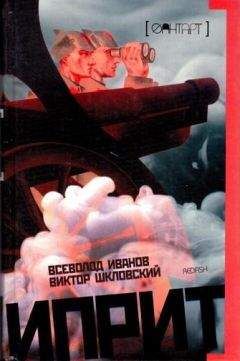Владыка со вздохами и охами докладывал об этих печальных делах, посверкивая остренькими глазками сквозь белые мохнатки бровей. Иван Васильевич молча слушал речь святителя. «Опять старые дела! Ано опять котора [Распря] между дядей и племянником из-за престолу». - Сына своего Ивана я ставлю на великое княжение так, как мне отец повелел! - уклончиво наконец вымолвил князь Иван. - А что до того, что имение неправо я дал, так наш отец приказал нам матери нашей слушаться… Как она прикажет, так тому и быть. Она теперь хоть инокиня, а во всем свою власть держит… А ты, владыка, сказывал ли братьям, что я их жалую, даю им Калугу да Алексин?
- Сказывал! - ответил владыка и засмеялся тоненько: - Хи-хи-хи!.. Как не сказывать! Да только братья твои говорят, что ты больно хитер, что Алексин и Калуга на пути от татар к Москве стоят и, де, что если те города взять, то, значит, тебя от татар и оборонять им придется. Хитро, говорят, великий князь все делать хочет, и кто это, ему, говорят, все советует?
А Иван Васильевич слушает, и так он и видит перед собой строгое, неуступчивое лицо Софьи. Ох, и есть да еще будут раздоры! У Софьи рос ведь сынок Васенька Иванович, топал уже по великокняжьим клетям толстыми, крепкими ножонками. Царского, греческого роду тот был Василий - «Василевс», по-русски сказать - ну «царь»…
- Или что же это - не Васю ты поставишь на царство, а Ивана Ивановича, что рожден от тверской княжны Марьи, от их крамольного роду? - как-то раз спрашивала уже Софья Фоминишна у мужа.
Васенька-то пока что невеликое облачко, а сулило оно большею бурю… Борьба за власть в тени трона была привычной стихией византийцев, они хорошо знали все ее хитрые приёмы и обычаи, они в ней никого не щадили. Старшему сыну Ивану могла грозить и еще одна тайная опасность: не зря ехал уже на Москву вызванный брат Софьи, прямой наследник константинопольский, царевич Андрей.
Вести о распрях на Москве между братьями долетели в Дикое Поле, до Ахмата-царя, и очень он был им рад: вставала старинная смута, и могли, пожалуй, повториться жирные татарские времена, могла, пожалуй, вспыхнуть усобица… И Ахмат-царь торопился издаля подымать свои бунчуки, слал новое посольство, торопил Казимира выступать на Москву, уж и межу указал, где должны были сойтись польские, в латы кованные, и татарские овчинные, в войлочных бронях полки.
За Рязанью, из дальних сторожей, с дальних рубежей от выдвинутых в степь вольных казаков, от их застав и засек в Диком Поле наконец запылали сигнальные огни на вышках, взвились высоко черные дымы. Шел Ахмат - царь Ордынский - из глубин волжских степей на Москву, на свой улус.
В майский день собрал Иван Васильевич совет в своей избе. Сидел там весь великокняжий род да ближние люди. Был тут чернолицый, низенький, широкоплечий не в меру князь Верейский Михайло Андреевич, молчаливый и мирный человек, дядя великого князя. Он уже давно уступил большую часть своего удела Москве и связал свою судьбу с племянником.
Сидела и черница - инокиня Марфа - в черном апостольнике, подхватывавшем ее одутловатые желтые щеки. Был тут митрополит Геронтий со епископы да с архимандриты, был тут и сын великого князя, его наследник, тонкий красивый юноша Иван Иванович, по прозванью Малый. Белые высились в окнах березки, сквозили душистой листвой, ворковали голуби под застрехами, да накатывало, обдавало по временам колокольным звоном. Солнце в упор зажигало цветные искры на нарядах и на оружии, на поясах и светило прямо в темный лик Одигитрии.
- Русские люди, - сказал Иван Васильевич. - Приходит грозный час. Должны мы отстоять наше государство - Москву - от ордынского царя… Станем же, как прежде стаивали, станем, как великие и славные стоятели стаивали: и Александр Невский против немцев-рыцарей, и как Дмитрий Иваныч, прадед наш, против царя Мамая. И пусть бог по молитвам наших заступников Петра и Алексия митрополитов, поможет нам упасти наше правое дело, нашу землю, на которой и нам трудиться, на которой жить и нашим детям, внукам и правнукам, и ныне, и присно, и во веки веков.
Рати надобно собрать борзо… Передние полки поведут на рубежи сын наш Иван Иванович Малый да брат наш Андрей Васильевич Меньшой. Потом прибуду я сам с ратью. Дядя наш, князь Верейский Михайло Андреевич, да боярин Иван Юрьевич останутся на Москве для управы. Супруге нашей Софье Фоминишне с ребятами ехать на Дмитров, а оттуда к Белоозеру, и с ней пойдет великокняжья казна для обережения же. И быть с нею окольничему боярину Плещееву Андрею Михайловичу.
Слышали все, что Ахмат-царь идет к Дону-реке. Воевода Звенигородский, князь Ноздреватый Василий Степанович! Идти тебе с казанским царевичем Нордоулатом на ушкуях, сбежать Волгою, ихнюю Орду-город позорить, пожечь, людей побить, сколько мочно… Боярин Скряба Тимофей Прокопьевич! Скачи немедля в Крым, к брату нашему, царю Менгли-Гирею, проси, чтобы делал так, как по клятвенным ярлыкам-шертям, договорено… И шел бы он, Менгли-Гирей-царь, на Подолию, под Киев, чтобы Казимиру-крулю к царю Ахмату на межу выйти было не мочно!
А Москва быстро наполнялась народом: все спасали свои жизни и добро. Люди бежали с полудня, с татарского древнего пути, куда шли московские полки и где теперь должен был проходить и Ахмат-царь. На Рязанскую дорогу выходили и уже стали стеной костромичи, ярославцы, нижегородцы. Туда вышли и наши касимовские татаре да татаре из Новгорода-Рязанского. Оборонным рубежом лежала там река Ока, быстрая в своем глубоком ложе, среди лесов и перелесков из елок, березок, осин. Горели деревни - их, уходя в оборону, жгли крестьяне, горели и усадьбы поместий. Толпы помещиков, крестьянского люда, посадских со всяким скарбом, скотом спешили-шли, ехали к Москве за укрытием в стенах и за обороной в поле…
Татарские разъезды передовых отрядов на своих быстрых конях уже рыскали под самой Москвой, перехватывая дороги, рубя, арканя и уводя мужиков и баб, девок и ребят в полон, убивая крепких мужиков. Толпы ясыря [Пленные] появились и тянулась уже по степи, проклиная судьбу, в голос прощаясь с родными краями. Москва все больше распалялась на великого князя Ивана:
- Это все его дело! Это он избил послов ордынского царя… Эку тугу людям принес! - гудели москвичи по кабакам, по церковным оградам, на рынках, на площадях…-
Не хотел давать выходов!.. А ведь дани-то небось сам с нас емливал? Брал по-старому, а Орде не платил по-новому! И прогневал татарей-то. Эх! Бояре дерутся, у холопов чубы трещат!..
- На чужой-то роток не накинешь платок!
- Ей-то что! - говорили про Софью Фоминишну москвичи, до которых досягали отдельные ее слова из велико-княжьей избы. - Ей наши беды ништо - чать, она римлянка!.. Царица беглой деревни!.. Из Рима пришла к нашему нестроению. Переменил князь старый обычай - и вот замешалась земля-то. А как раньше-то мы жили - сла те осподи! Зато ныне гибель приходит докончательная. Известно, та земля, что обычай свой переменила, не долго стоит. К нестроению она нашему пришла!
Приходили и добрые вести. Князь Ноздреватый с татарским царевичем успешно ворвались в Орду, никакой обороны там не застали и успешно ее жгли, громили и грабили. Весь улус ордынского царя трещал под ударами ушкуйников и татарских и русских наездников… С Крыма через Перекоп вышли полки царя Менгли-Гирея, шли на север к Киеву, грозя Подольщине.
Сияюще прекрасны майские дни в тех русских местах. По зеленым лугам темные ракиты глядятся в светлую воду речек, что текут в неглубоких бережках. Увалы, склоны, горушки, вспаханные поля. По оврагам отцветает черемуха, несет оттуда сыростью, ландышами, звенят ключи. Подошел и Семик, веселый, весенний праздник за Троицыным днем: тут бы игры играть, хороводы водить, свирели свистеть нежно и жалобно да плясать, венки завивать. И не до плясу: такая воля божья - татарская сила идет.
И идут встречу на полдень оржаные рати, ползут, гремя железом, по полевым дорогам среди несеяных полей, среди сгоревших, брошенных деревень, шелестят вразброд лапти по земле мягким харанчиным шелестом, мнут цветы на обочинах дорог. Уходят полки в темные леса, под своды их, под лапы темных елей, острые шпили которых зубят весь горизонт; идут там рати в духовитой прели, во мгле, середь павших лесин, валежника, зеленых мхов, папоротников, и звуки протяжной песни иногда глухо отзовутся среди дерев, стоящих, что твои окаменелые воины. Чуя шум идущей силы, лесное зверье отбегает подальше, улетают и птицы, и только черные вороны сопровождают войска: знают - близка пожива. По вечерам горят сквозь дерева алые зори, месяц спеет по светлому небу за уходящим солнцем, на берегах речек полыхают теплины привалов, дым отгоняет комарье и мошкару. Всюду воины в шлемах, в толстых шапках и в железе, в стеженых тегиляях, с оружием, какое послал господь, или заботливый помещик, - от арабского дамасского меча и до топора на ухватистом топорище, до рогатины на березовом ратовище… Тени от воинов уходят трепетно между стволов в леса и там шевелятся тоже, словно легкие армии, - и тем чернее, чем ярче костры, на которых варят себе походное варево ратные люди… Все кругом полно красным светом, гремят голоса, отзываются бесконечным эхом, стучат топоры - валят сухостой, фыркают кони, ревет мясной скот, монотонно поют замиренные татаре, а то прогремит громом раскатистый смех из воеводина шатра, где в раскрытую полу видать, как алеет огонек лампады.