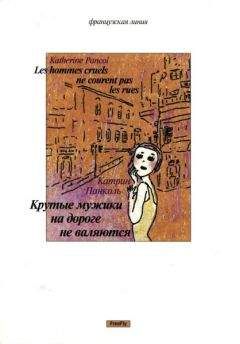– На мелодию. Нужно усилить правую руку, чтобы заглушить аккомпанемент, – заявила Калипсо. – Если ты этого не сделаешь, получится что-то расплывчатое и смутное, так не должно быть.
– Но если ты с самого начала будешь играть медленно, – ответил Гэри, – получится очень тягуче, очень прямолинейно, и так тоже не должно быть.
Они настраивались, напевали, считали размер, отбивали такт, догрызали курочку, вытирали о траву жирные руки и быстрей бежали в зал, чтобы отрепетировать все, что здесь придумали.
Она не хотела бы оказаться нигде, кроме как здесь и сейчас.
Вот оно какое, счастье. Когда все на своих местах и твое место уже зарезервировано.
И все проникнуто жизнью. Вот она выскакивает из музыки, из окрестного пейзажа, из запаха травы, из обыденных забот.
Им не нужно было даже разговаривать. Они порой перебрасывались фразами, очень короткими, словно рикошетом отлетающими от одного к другому. И такими же взглядами.
Вчера, когда он провожал ее…
Какая-то девушка шла навстречу. Вся колыхалась, поводила бедрами. Она могла быть красивой, но предприняла для этого слишком много усилий, так что все вышло насмарку. Они в один голос сказали:
– Резиновая!
Резиновая.
Ну разве ж это не счастье?
У нее были еще подобные примеры.
Она играла на скрипке в парке. Гэри слушал ее, лежа на траве. Улыбался широко и радостно, подперев голову рукой, а вторую руку с крошками протягивая белкам.
Мимо прошел странный человек в длинном плаще. Он слегка кивнул им на ходу. Потом виновато развел руки: извините, не буду беспокоить, и удалился.
Гэри рассмеялся.
– Можно подумать, что он вышел из романа начала XX века, он как будто бумажный, ты видела, как он одет!
– Не издевайся над моим воздыхателем!
– Это я твой воздыхатель! – заявил он безапелляционно, хватая ее за лодыжку и сжимая пальцы в кольцо.
Она покраснела так сильно, что вынуждена была отвернуться.
И вновь миллионы муравьев зашевелились у нее в носу. Они наступали колоннами, устроили пробку, смог, машины гудят, ужас! Она готова была взорваться.
На следующий день Гэри спросил незнакомца:
– Вот мы все с моей подругой думаем, почему вы за нами ходите?
– Понимаю вас, – ответил незнакомец. (Он был в шарфе, хотя стоял июнь.) – Можно я присяду рядом с вами?
Он опустился на траву изящным движением опытного гимнаста. Одну ногу вытянул, другую подогнул. Сорвал травинку, прикусил зубами.
Он объяснил им, что прежде был довольно известным скрипачом, есть даже табличка с его именем в концертном зале в Филадельфии, а потом… Он разбился на мотоцикле, сломал левую руку, да так, что никогда больше не смог играть.
Глаза у него были очень грустные. Он вынул из кармана изуродованную руку в белой перчатке без пальцев. Она была похожа на высушенную закутанную в тряпочку ящерицу. Калипсо в ужасе отпрянула. Спрятала руки в карманы платья, словно замаскировала их под легкой тканью цвета хаки.
Незнакомец увидел ее движение и грустно улыбнулся.
Калипсо закусила губу. Тогда незнакомец поглядел на нее ласково, успокаивающе, и произнес:
– Я хожу за вами, мадемуазель, потому что, когда вы играете, я слышу мою скрипку давних времен. У вас же Гварнери, правда? У меня тоже такая была. Вы так прекрасно играете…
Он пригласил их посидеть в кафе «Сабарски».
Гэри положил руку на плечо Калипсо, немного надавил, что означало: я здесь, я с тобой, ничего не бойся, я сверну голову ящерице, если она захочет тебя напугать.
Это ощущение показалось ей чудесным.
В кафе «Сабарски» они заказали два чая, один горячий шоколад, пирожные, взбитые сливки и засахаренные вишни.
Незнакомец сказал, что хотел бы помочь Калипсо. В смысле оказать финансовую помощь. Он прекрасно знает, что начинающий скрипач не очень-то много зарабатывает. А у него большое состояние и нет детей.
Он повернулся к Гэри, добавил, что ему кажется, что тот не нуждается в помощи. На его лице читается достаток. Он прав или нет?
Гэри молча кивнул.
Незнакомец прав. Он не нуждается в деньгах.
Но он при этом был не прав.
Гэри очень нуждался в помощи.
Он проводил все свое время с Калипсо и ее скрипкой, со своим фортепиано. Ел, сидя по-турецки на газоне, разговаривал с белками, наблюдал за плывущими в небе облаками. Закрывал глаза. Клялся себе, что никогда не был так счастлив.
Он провожал ее до 110-й улицы, целовал у стены из красного кирпича, одними губами выдувал беззвучные слова, сжимал ее пальцы, слышал, как дрожит ее голос, как зажигается в ее глазах таинственный свет, говорил: «Уже четверть шестого, уже двадцать пять мину шестого», стискивал ее в объятиях, слушал, как бьется ее сердце, но всегда останавливался на пороге.
И всегда уходил. Оборачиваясь, размахивая руками на прощание.
Спускался по улице Мэдисон. Проходил перед многоэтажным гаражом, где одни машины стояли над другими, удивлялся, как же люди могут быстро получить свою машину, если куда-то торопятся.
Он пересек парк. Пошел на запад. Посмотрел на солнце, зависшее над зданием «Дакота», где Чепмен застрелил Джона Леннона. Вышел из парка. Пошел по 66-й улице. А ведь Габриэль Форе был вовсе не старым, когда сочинил свой ноктюрн. Ему было не больше тридцати. Я не должен терять ни минуты. О, какая чистая, какая прекрасная мелодия…
Он открыл дверь квартиры.
Гортензия испустила радостный крик. Обвила его руками за шею. Он хлопнул ее по попе, назвал своей курочкой, она захохотала, поцеловала его в губы крепко-крепко.
Склонила голову набок, взяла его за руку, воскликнула: «Иди сюда, посмотри!»
В волосах у нее вместо шпилек торчали карандаши. Пальцы были испачканы тушью. Нос измазан голубой и красной краской. От этого казалось, что она слегка косит. Она воскликнула: «А ты что думаешь? У меня столько идей, нужно как-то привести это в порядок».
Она показала свои рисунки, обняла его за шею, еще раз поцеловала.
– Я так счастлива! Столько всего происходит! Жизнь невероятно прекрасна! Я хочу тебя! Ты большой, сильный, красивый, ты мой герой!
И он стоял в столовой и смотрел на нее, смотрел на нее молча больше трех минут, и думал, как она прекрасна, как она ослепительна, как ее глаза, ее талия, ее кожа, ее волосы… «О, как она наполняет меня красотой. Это моя половинка, половина моей жизни! Сколько уже времени я дышу в унисон с ней? И при мысли, что… о, нет!» У него перехватило горло. Он прижал ее к себе, понес на кровать. Он так боялся потерять ее.
И Гортензия, нежная и пленительная, прижалась к нему, прильнула страстно и яростно, посмотрела ему в самую глубину глаз, укусила его за верхнюю губу, произнесла отчетливо и громко, словно выпуская в воздух зажженный дротик: «Еще, еще!»
И он тотчас же забыл Форе, репетиции, Рико, Калипсо, парк, 110-ю улицу и бьющую по ногам скрипку Гварнери.
Он смотрел на нее, ошеломленный: «Как же ты прекрасна!»
Он ведь совсем забыл об этом. Гортензия Кортес, Гортензия Кортес! Как я осмелился забыть тебя? Какой же я бестолковый и несуразный человек! Забыл твои тайфуны и туманы, твои бури и ветра… Забыл твои ловкие нежные руки, твои танцующие бедра, твои стопы, тайком пробирающиеся по моей ноге…
И они повалились в кровать, впившись губами друг в друга. Они гладили друг друга, ласкали, срывали друг с друга одежду. И… она изогнулась изящной спиралью, а он вдруг остановился, выдержал паузу. Покачал головой, прошептал: «Нет, нет. Это слишком легко, моя маленькая, слишком легко. Что ты себе возомнила? Что меня так просто соблазнить?» Она выгнулась дугой, но он отодвинулся.
Он хотел прийти в себя, сохранить самообладание, не дать страсти унести себя. Хотел скрыть волнение, смягчить жестокость столь неизбежного, столь фатального объятия, заставить ее подождать, засомневаться, хотел спустить ее с пьедестала, на который она себя возвела, заставить забыть роль девушки, которая приказывает, девушки, которая красива настолько, что больно глазам. Он прищелкнул языком, тцц, тцц, красавица, ну-ка помучайся немного. И она знала это, она это знала, но тоже забыла и стала умолять, умолять его, и их объятия возобновились, словно никогда и не прерывались, она хитро улыбалась, обвивала его, скользила, а он направлял ее, стараясь остаться при этом холодным, грубоватым, пока, наконец, не терял голову окончательно и не сливался с ней в водовороте страсти, завершающимся последним ослепительным фейерверком. И потом, изнемогшие, удовлетворенные, они лежали, обнимая друг друга, и она спросила его с тем же хитрым видом, чтобы заставить его поверить, что она послушная маленькая женушка, которая прождала его весь день, сидя у очага с вязанием в руках, она спросила его, как только успокоилось дыхание:
– Ну как сегодня день прошел?
Да наплевать ей на его день по большому счету! Ей нужен его взгляд, его руки, тяжесть его тела, его губы и его стоны, она хочет проглотить его, сожрать его. У нее от него слюнки текут. Но она помнила, что нужно учитывать его предпочтения, его фантазии, его музыку: Форе, Шопена, Моцарта, Бетховена и всю компанию.