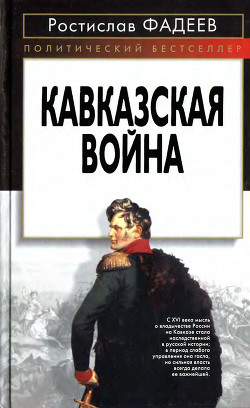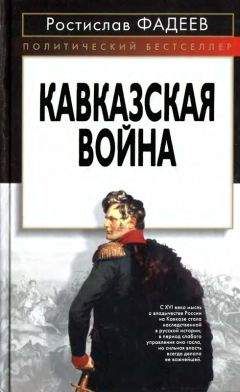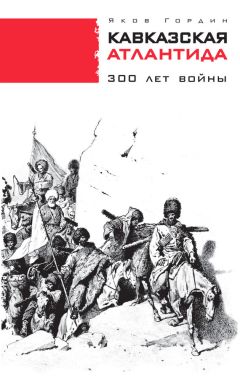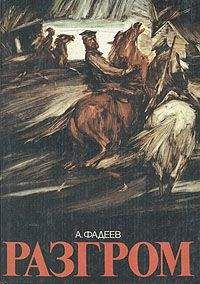Мы впали в нынешнее состояние не по своей вине, как французы, и не по чьей-либо личной вине; оно стояло на нашем историческом пути, как опасное место в скачке с препятствиями, — а наша история была именно самой головоломной скачкой с постоянными препятствиями. Отдав все свои силы, без остатка, в продолжение четырех веков, на создание государства и народа, прочно закрепив напоследок свое национальное бытие, мы поневоле должны были пойти в науку к Европе, потому что не умели ни разведывать собственные руды, ни отливать собственные пушки, и вынесли из полуторавекового обучения то, что должны были вынести из него — образованность и науку, но в то же время полное обезличение и полную бессвязность взращенных на русской почве европейцев, всего нашего культурного слоя. Обезличение явилось необходимым последствием умственного состояния, в которое как долго было погружено русское общество, заимствовавшее всякое звание из чужих рук без возможности проверить его на собственном деле и собственном опыте: свое дело и свой опыт были приостановлены у нас петровским преобразованием, заменившим стремление к общественному развитию — развитием личности. Русское правительство воспитательного периода учило своих подданных, а потому не могло ни в какой мере учиться от них, не могло допустить общественной самодеятельности школьников; оно воспитывало русских европейцев не для общественных, а для государственных целей, для армии и администрации, вследствие чего эти люди, представлявшие собой все русское культурное сословие без остатка, были связаны взаимно только отношениями служебными, но были совершенно разобщены и между собой, и с народом как граждане. Мы воспитались в общественной бессвязности, прикрытой наружно екатерининскими губернскими учреждениями. Обезличение и бессвязность — самые явные черты современного русского общества, хотя вовсе не коренные его свойства, потому что истекают не из народного характера, а из чисто школьного воспитания. Тем не менее они составляют нашу главную, даже единственную болезнь, в них корни всех наших частных болей. Мы нуждаемся именно в том лекарстве, которое способно вылечить нас от обезличения и бессвязности.
Как ни слабо было спаяно образованное русское общество, выросшее поодиночке, человек за человеком, изо всех народных слоев русской земли в продолжение воспитательного периода, оно находило еще недавно некоторое, хотя наружное объединение в своем сословном значении. Вызванное к самодеятельности с окончанием школьного периода, оно непременно срослось бы, и довольно скоро, в нечто цельное, не мешая развитию русской жизни ниже, под собою, так как оно было, по существу, сословием не кастовым, а политическим, открытым снизу. В то время, когда совершались наши последние преобразования, всемирный опыт достаточно уже выяснил условия правильного общественного развития: можно было уже не сомневаться в истине, что эта правильность зависит исключительно от связности и постепенного, естественного, а не искусственного разрастания образованных слоев, воспитанных исторической жизнью; что право на непрерывное развитие, не подверженное никаким колебаниям, осталось только за народами, умевшими оградить себя от вторжения толпы в не принадлежащую ей область — за Англией, в силу твердого закона и укорененных обычаев, за Америкой, в силу одних твердых политических нравов; что существование полноправных общественных слоев, руководящих народной жизнью и способных к известной доле единодушия, невозможно без прочной сердцевины — по крайней мере у нас, в старом свете, слишком опутанном своим прошедшим.
Все это было уже доказано опытом, только не для нас, заинтересованных европейской жизнью в смысле, не исторического урока, а занимательного романа, роль которого давно уже нравились многим нашим. Когда созрело мнение, руководимое правительством, о необходимости срезать с России болезненные наросты, порожденные нашим прошлым, — крепостное право, бессудие и безусловную чиновничью опеку, — мы не умели провести явной черты между своими собственными, русскими потребностями и чужими стремлениями, привившимися к нам во время нашего сидения за европейской азбукой. Перед тем только что разыгралась крымская война, поколебавшая временно нашу давнюю уверенность в себе — вследствие чего русские культурные люди стали на известный срок еще более школьниками, еще более несостоятельными существами в общественном смысле, чем были прежде. Такое настроение должно было очень естественно открыть настежь двери разливу нигилистского пустословия. Прежде чем прошло это поветрие между взрослыми людьми, переделка нашего общественного строя уже совершилась, — переделка, несомненно необходимая, осуществившая великий и благотворный поворот в нашей истории и безупречная со своей отрицательной стороны, устранившая все, что должно было устранить, но не заменившая устраняемого, во многих отношениях, ничем существенным. Насчет этого существенного в ту пору было еще слишком трудно согласиться; нам недоставало даже самого начального общежитейского опыта, мы еще слишком доверчиво относились к своим, принятым на веру идеалам. Дух, проникавший преобразование шестидесятых годов, соответствовал настроению времени; выдвигавшиеся на сцену деятели той эпохи были почти все, как известно, представителями так называемых «передовых стремлений», все содержание которых почерпалось не из жизни, а из заемной науки нашего воспитательного периода; стремления эти находили себе поддержку и в недовольстве большинства, разочарованного крымской неудачей, и в обаянии свободного русского слова, впервые прорвавшего плотину и не знавшего пределов своему детскому увлечению. Правительство со своей стороны затруднялось установленным преобладанием высшего сословия для того времени, когда приходилось изъять из-под руки его двадцать миллионов крепостных. Хотя самый трудный шаг в этом деле — личное освобождение — был совершен самим дворянством, местными помещиками (чему, сказать мимоходом, западные соседи наши почти отказываются верить), но тем не менее понятно, что в те годы считалось более удобным разъединить сословия, чтобы окончательно упрочить самостоятельный быт освобожденных. Жертвовать основными историческими началами, особенно когда их нечем заменить, удобству минуты — едва ли можно считать выгодным; но для каждой полосы времени интерес текущего часа почти всегда перевешивает все остальное. Сила, однако ж, в том, что эта мера — разъединение сословий и между собой, и в самих себе, — имевшая некоторое значение в смысле меры переходной, установилась надолго и обратилась в руководящее начало, на котором были воздвигнуты дальнейшие преобразования. Весь этот итог разнообразных течений повлиял прямо на исход дела. Оттого, смеем думать, великие преобразования шестидесятых годов, вполне верные духу русской истории со своей отрицательной стороны и в своей современности, неоспоримо верные также в коренном основании в освобождении народа с землей, оказались теоретическими, не совсем русскими, со стороны положительной, в задуманном ими новом общественном устройстве, очевидно сочиненном людьми того времени.
Вопреки примерам, стоявшим перед нашими глазами, мы сделали опыт, никому еще не удававшийся в Европе и шедший вразрез всему содержанию нашей послепетровской истории: окунулись в полную бессословность, растворили в массе свое, еще не достаточно связное, еще не созревшее культурное сословие, требовавшее времени и самодеятельности для того, чтобы стать на ноги — и теперь вкушаем уже первые плоды начавшегося всеобщего нравственного разброда, но только первые — далеко еще не последние плоды. В настоящее время у нас, как во Франции, не набирается четырех человек для выражения одного и того же мнения, и нельзя связать вместе даже двух человек для проведения какого-нибудь общественного дела, вне личных интересов; зато, не в пример Франции, где, по старой привычке, над человеком стоит еще некоторый надзор мнения, у нас нравственное своеволие личности ограничивается только чертой, за которой начинается вмешательство власти. Связность общества, внутренняя его дисциплина, подчиняющая лицо большинству с тех сторон жизни, к которым официальный закон не имеет доступа — без чего свобода невозможна — не успевшая окрепнуть до эпохи преобразований, расшаталась совсем, как только с нашего юного культурного общества была снята прежняя обстановка, хотя бы искусственная, поддерживавшая его цельность; общество наше подверглось участи всякого кирпича, с которого снимут рамку прежде, чем он затвердеет. Следуя нынешним путем, мы неизбежно придем к исходу слишком явному, чтобы можно было в нем усомниться: к тому исходу, что русское общество, т. е. вся наша историческая культурная сила, рассыпется сухим песком, утратит всякую способность к какому-либо сборному делу, к какому-либо умственному или практическому почину, утратит всякое определенное сознание о различии между нравственно должным и недолжным, всякую мысль об общем деле, сохраняя почтение к одной только истине — к практической истине личных интересов. Венцом такого общества станет видимо вырастающая у нас еврейская биржевая аристократия, как подательница единственного блага, сохраняющего свою цену одинаково и в глазах потомков Пожарского, и в глазах семьи Минина. Наше общество будет в состоянии производить, может быть, лично способных людей, но не выработает ничего из самого себя, не сложится ни во что определенное. Нам придется или дожидаться того счастливого часа, когда весь русский народ поголовно обратится в американский в отношении политической зрелости, — конечно, по вдохновению свыше, потому что нынешним путем мы не придем к такому концу, — или же оставаться навеки народом, способным жить только под строгим полицейским управлением; наша будущность ограничится одной постоянной перекройкой административных учреждений. Нечего и говорить, что на таком основании русская мысль и самобытная закваска, вложенная в русский народ его историей, пропадут даром, не разовьются ни во что осмысленное. Наш упадок совершится постепенно, не вдруг, но совершится непременно. Кто тогда будет прав? — Решаемся выговорить вслух: одна из двух сил — или русская полиция, или наши цюрихские беглые с их будущими последователями. Судьба России, лишенной связного общества, будет со временем поставлена на карту между этими двумя партнерами.