отдадим свое. И в светлые дали нас песня та зовет.
От всего этого моллюски становились еще более противными. Моллюски под соусом. Первый раз они показались мне чудесным лакомством. Но есть моллюски каждый день... и даже через день... От этих консервов из моллюсков просто тошнило, особенно когда не было воды. Да и мармелад был только одного сорта — из древесной массы, как и одежда. А что можно было купить другого?
Что едят в наших горах? Конечно же, не жирных барашков и не кебаб по-гайдуцки, но ведь и не моллюсков же. Сколько еще я буду валяться в этом паршивом лесочке? (В глубине души я понимаю, что несправедлив — я люблю этот парк, но, излив свой гнев, я немного успокаиваюсь.) Лиляна сейчас обдумывает предстоящие вечером встречи. Мушичка стискивает зубы перед ночным боем. У каждого есть дело, только я сижу и жду...
Я часто пытаюсь представить себе наш подпольный фронт и всегда вижу только тех, кого знаю. Остальные остаются невидимыми. От этого фронта каждый день поступают свои коммюнике, причем в официальной прессе. Короткие и трагические. Возьмешь утреннюю газету и страшно ее открыть...
«Уничтожены разбойники в районе Белоградчика. Убит предводитель разбойничьей банды Князь Александр».
Я читаю сообщение еще и еще раз, бросаю газету и гляжу в пустоту, а в сознании борются боль и надежда: нет, не может быть, полиция всегда хвастает, из мухи делает слона... Однако разум беспощаден. Это правда. Конечно же, это правда. Мои товарищи по университету, родом из тех мест, рассказывали о Живко Еленкове, наводившем страх на полицию. Им гордился весь Белоградчик. И вот Живко Еленков убит... Я стискиваю зубы, от боли сжимается сердце. И так всегда, когда кто-нибудь погибает. Если и существует что-либо необратимое, так это — смерть. Каждая смерть обособленна, индивидуальна.
А в те дни смерть царила повсюду. «Уничтожена террористическая группа в районе Пловдива. Часть террористов убита, часть схвачена живыми». О бое у Фердинадова я потом буду читать с упоением, но сейчас это сухое, издевательское сообщение в газете потрясло до глубины души. Одно лишь было мне непонятно: схвачены живыми! Ты жив, — значит, надеешься, что они тебя простят, а это — предательство... Я еще многого тогда не знал. Позже я пойму, что если тебя схватят, то это страшнее всего, и никто не желает такой участи. Просто иногда не удается избежать ее. А тогда я безоговорочно осуждал схваченных. Может, потому, чтобы смягчить боль за убитых. Семь человек! А скольких усилий стоит нам привлечь хотя бы одного!
Да, смерть за смертью. Убит «крайне опасный коммунистический деятель и террорист Эмил Марков, заочно приговоренный к смерти... Он смертельно ранил доблестного полицейского... Еще один успех полиции». Вот гады! Это действительно так. Это их успех. Что значит один паршивый полицейский в сравнении с Эмилом Марковым? Марков, по крайней мере, погиб в бою! «В Русе поймана террористическая группа, совершившая покушение на начальника областной полиции». «Раскрыта шпионская сеть... в Пловдиве и Карне. Две женщины и двое мужчин приговорены к смерти». «Три смертных приговора за шпионаж» в военно-воздушных силах. И вдруг: «Убит один из самых опасных террористов. В бою в районе Белоградчика убиты Асен Балканский и два его сподвижника». Асен Балканский! Это самое известное мне среди партизан имя. Оно стало легендарным. Асен разъезжал в фаэтоне по Софии, Видину, Лому, лечился в Александровской больнице, пил кофе с полицейскими и разузнавал их тайны, бросался в бой, был неуловим. (Позже выяснится, что легенда почти не приукрасила действительности.) Это страшный удар... В те дни на улице Оборище пал от вражеской пули и один из партизанских командиров. Борис Нованский был членом штаба Софийской военно-оперативной зоны. Тихий и неукротимый, волевой и сердечный, он умел увлекать за собой, умел убеждать словом. Борис Нованский погиб в бою как рядовой солдат революции. Революция сделала его посмертно своим генералом. Мне не пришлось с ним встретиться.
Потери, потери...
А некоторые валяются на мягкой траве.
Вот что значит иметь броню, внутреннюю броню, ничем не уязвимую! «Террорист... бандит... разбойник... убийца» — как ни называй, лишь бы было неприятно. А нам приятно. Все это означало борец. И не какой-нибудь, а тот, кто находится на передовой...
«Наверняка многие хорошие люди останутся в живых», — думал я, а сердце сжималось от боли. Мне казалось, что все самые лучшие уже погибли.
А вот Пейчо уцелеет. Вот плут. Нет, негодяй. Хотя он и считается нашим, все равно негодяй! Думает не о товарищах, а о себе, да еще хочет и совесть свою успокоить!
Мы уже были у Дырвиницы [18]. Не заметили, как и добрались. Мы с Пейчо давно не виделись, и у нас было что сказать друг другу, а потом...
Спор начался не вдруг. Пейчо начал с мягких, умных слов, каждое из которых он будто ощупывал, прежде чем произнести.
— Видишь ли, даже в природе существует целесообразность, а человек — существо мыслящее. Для него целесообразность должна быть законом. И особенно для нашей партии. Я понимаю, ты стремиться туда, где всего горячей. Это замечательный порыв. Но нельзя, чтобы тобой руководили только чувства. Ты — талантливый человек и будешь очень нужен партии завтра, для строительства нового общества. Тогда ты и приложишь свои силы. Человек — существо мыслящее.
— Знаешь, я иногда сожалею...
— О чем?
— Что человек — существо мыслящее.
— Почему?
— Ну вот, когда слушаю тебя...
— Ты меня не собьешь. Я много думал об этом.
— О себе?
— Если хочешь, то и о себе.
Рассчитывая сразу одержать победу в споре, я сказал, что он слишком увлекается философией, но правильнее было бы сказать «философи́ей» [19].
— Послушай, что проку партии от твоего трупа? — ответил он.
Эти слова Пейчо задели за живое: что это он хоронит меня? Огорчило и то, что он так легко сказал это. Во мне взыграл подпольщик, у которого нет иного пути. Правда, именно это удержало меня от того, чтобы сказать ему все, что я думал: в тот момент он был мне ненавистен. Его широкая улыбка казалась слащавой, противен был его золотой зуб, со злорадством смотрел я на его лысеющую голову. А ведь раньше я относился к нему неплохо. Я сказал Пейчо пару «теплых» слов. Он обиделся и ответил, что я кичусь своей революционностью. Мы замолчали.
Затем спор возобновился. Пейчо был умен, и мне иногда не удавалось побороть его логику, разбить
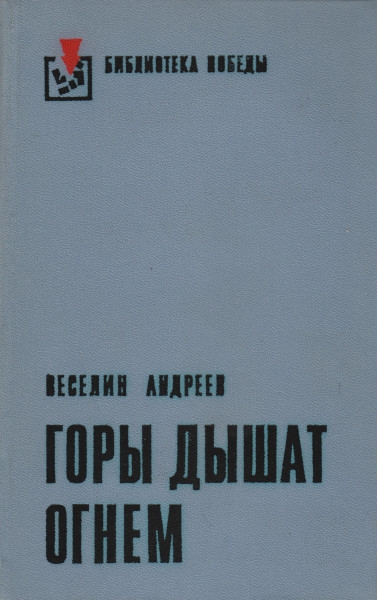
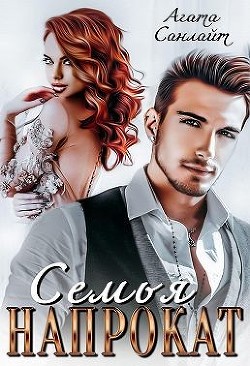
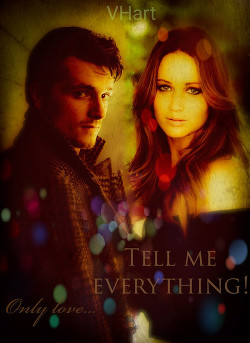


![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)