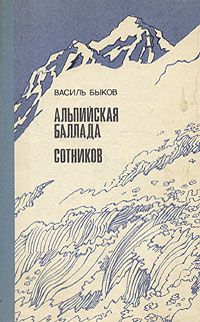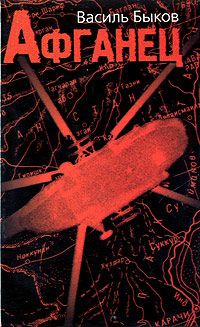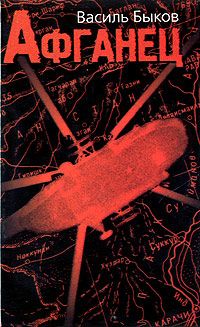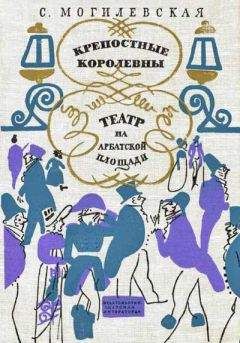Ознакомительная версия.
Спустя какое-то время они выбрались из мелколесья на широкую луговую пойму с редкими кустами лозняка в высокой траве. На краю ее Левчук позволил себе задержаться, чтобы отдышаться и подождать Клаву. Немцы их, кажется, не преследовали, но внутри у него все мелко дрожало, и он думал, что они только чудом избежали гибели. И все через Тихонова, который убил себя, на что, конечно, он имел полное право, но ведь тем самым он едва не погубил и остальных. Пристально всматриваясь в кусты на лугу, чтобы опять не наскочить на немцев, он почему-то не в лад со своим настроением подумал: а может, десантник их спас? В самом деле, если бы он не выстрелил и тем не испугал немцев, те, разумеется, подошли бы ближе и наверняка обнаружили бы их в картофеле. Стала бы неизбежной стычка, в которой еще неизвестно, кому бы повезло больше, очень просто могли полечь все.
Вот тебе и балда!..
Действительно, было похоже на то, что десантник их спас. Освободил от себя – это уж точно. Уже за одно это следовало быть ему благодарным, иначе как бы они убежали без лошади, с раненым? Война преподала Левчуку несколько самых удивительных уроков, он много узнал на ней и считал, что больше удивить его невозможно. Но вот, выходит, все удивлялся. Наверно, ее неожиданностям не будет конца, и вряд ли хватит всей жизни, чтобы как следует разобраться в ее причудах.
Вот хотя бы и Клава.
Радистка со страдальческим выражением тронутого коричневатыми пятнами лица догнала мужчин и тяжело опустилась коленями на траву.
– Ой, не могу... Не могу я...
– Ну вот еще! – не сдержался Левчук. – Что ж тогда? Отошли всего километр...
– Ды ужо километры два, – поправил Грибоед.
– Так что ж – два! Для них это – пара минут. Видели машины?
Ему никто не возразил, все замолчали. Клава, сидя в своей прежней позе, устало опиралась руками оземь и все запаленно дышала, готовая вот-вот расплакаться, а они двое стояли над ней и не знали, что делать. Грибоед хмуро поглядывал на нее из-под своей зимней шапки, что-то озабоченное тая в своих чувствах, – может, жалость, а может, упрек за все, что с нею случилось. Левчук был на нее почти зол, ясно сознавая, что задерживаться тут не годится. Им тут не место, тут их запросто могут настигнуть немцы.
– Так. Давай поднимайся. Луг перейдем, вон соснячок, там передохнем.
Клава придержала дыхание и, сделав над собой заметное усилие, поднялась.
Они медленно, с остановками перешли луг, перебрались на другой берег обросшего осокой ручья, через который Грибоед перевел Клаву. В редком соснячке взобрались на пригорок, и Клава снова в изнеможении упала на сухую вересковую поросль. Мужчины остановились. Левчук снял с головы пропитанную потом кепку, он уже согрелся, уже с неба неплохо пригревало солнце, день обещал быть жарким и безветренным. День этот надо было пережить, что в их положении было не легче, чем пережить вечность. Особенно с такой спутницей.
– Да, дела! – проговорил Левчук и внимательно посмотрел на Грибоеда. Тот, трудно, сипато дыша, выжидательно стоял в своем узкоплечем мундирчике, оснащенном по немецкой моде множеством карманов и пуговиц. – Хоть бы где баба какая. Какой лагерь семейный, что ли. Как на грех...
– Коня надо и повозку. Без коня как?.. – рассудительно сказал Грибоед.
– Была повозка. И конь. Проворонили балбесы... Вот что! Давай, дед, иди искать деревню. Может, где есть недалеко. Без немцев чтоб.
Грибоед не стал долго тянуть, озабоченно взглянул на Клаву и неслышным шагом направился с пригорка.
– И не задерживайся, слышь? – крикнул ему вслед Левчук.
Клава затихла на траве, а Левчук огляделся. За сосняком, кажется, лежало невспаханное поле, за которым опять тянулись леса, и нигде не было видно никаких признаков близкой деревни. Стояла утренняя тишина, в сосновых ветвях беззаботно возились птицы; выстрелов или человеческих голосов не было слышно. Присматриваясь к сосняку, Левчук полукругом прошел по взлобку, послушал – вроде нигде никого. Тогда он вернулся к Клаве и, все вслушиваясь в лесные шорохи, сел подле девушки. Подумав, что, наверно, Грибоед вернется не скоро, стащил сапоги, разбросал по траве сырые портянки.
Клава лежала на боку и большими, полными тоски глазами смотрела в сосняк.
– Наделала я вам забот. Ты уж меня извини, Левчук.
– Что извинять. После войны сочтемся.
– Ох, как только дожить до ее конца? Не доживу я.
– Должна дожить. Он не дожил, а ты должна. Надо постараться.
– Разве ж я не стараюсь...
Она вдруг заплакала, тихонько и жалостно, а он сидел рядом, вытянув к солнцу красные натертые стопы, и молчал. Он не утешал ее, потому что не умел утешать, к тому же считал, что в том, что с ней случилось, Клава была виновата сама.
6
Тихо всхлипывая, Клава плакала долго, и Левчук в конце концов не стерпел.
– Ничего, – сказал он, смягчаясь. – Как-нибудь. Ты потерпи.
– Ой, я уж так терплю, но... Сам знаешь.
– Главное, к какому-нибудь жилью прибиться. Да вот ни черта нет. Все вокруг посжигали.
– А если где не сожгли, так ведь немцы, – сказала Клава с наболевшей тоской. Видно, она об одном этом только и думала всю дорогу.
– Немцы, конечно, – невесело согласился Левчук.
Он старался вести себя сдержанно и с виду казаться безразличным к ней, а внутри в нем все возмущалось – такого поворота событий он не ожидал. Еще вчера он сидел на Долгой Гряде и думал только о том, отобьют очередную атаку карателей или нет, а если нет, то куда и как бежать, где спасаться. И вдруг это проклятое ранение, которое все так переиначило, навалив на него новые обязанности с Тихоновым да еще с Клавой. Что ему теперь делать, если ей вдруг приспичит? Он даже начал бояться, чтобы этого не случилось тут же, и искоса поглядывал на нее. Но Клава, полежав немного и, наверно, переведя дух, села ровнее на ватнике, по-прежнему опираясь оземь руками. Ее шитые на заказ кожаные сапожки с белыми, вытертыми о траву носками были мокрые, юбчонка тоже подмокла снизу, и Левчук сказал:
– Сними сапоги. Пусть подсохнут.
– Да ну...
– Сними, сними! – И, поняв, что ей неловко сделать это в ее состоянии, поднялся. – А ну дай!
Левой рукой он стащил с ее ног один, а затем и другой сапог. Клава после минутного замешательства почувствовала себя свободнее и подняла к нему благодарный взгляд.
– У тебя как плечо? Перевязать, может?
– Ерунда. Не надо.
Он уже притерпелся к ране в плече и все жалел, что пошел в санчасть, лучше бы остался в роте. Глядишь, пробился бы со всеми из кольца и не знал бы забот, которые теперь одолевали его.
– Ну и Тихонов! Не знаю даже, что и думать, – сказал он, присев на траве невдалеке от Клавы.
– Испугался. А может...
– Испугался, факт. Но что бы мы делали, если бы не испугался?
– А может, он ради нас? – сказала Клава.
– А кто его знает? Разве теперь поймешь? Чужая душа – потемки.
– Знаешь, хорошего человека издали видно.
– Ну да! А плохие, они, думаешь, не маскируются? Вон как тот гад? Уж такой симпатяга был...
– Ты о ком?
– Все о том же.
– Что теперь о том говорить! – недолго помолчав, сказала Клава. – После мы все умные.
– Вот именно – после. И умные и строгие. А поначалу такие добренькие. Уши развесили, а он нож в спину.
– Платонов и тогда говорил: есть подозрение. Но ведь доказательств-то не было.
– А, доказательств ждал? Ну и дождался.
Они помолчали недолго, Левчук, откинувшись на локоть, кусал травинку, обводя взглядом сосняк. И Клава, что-то преодолев в себе, заговорила негромким голосом:
– Конечно, насчет Платонова мы теперь можем судить по-разному. Осуждать его. Но каково и ему было? Я же понимаю, он говорил мне: что-то нечисто, но как узнаешь? Для того чтобы узнать, время надо.
– Надо было шлепнуть обоих, – просто решил Левчук. – А что? Раз сомнение, то и обоих. Чтоб без сомнения. Вон у Кислякова было: прибежал дядька из деревни, просится в отряд, а у самого брат в полиции. Ну что делать? Как говорится, бабка надвое гадала: может, честный, а может, и агент. Ну и шлепнули. И все хорошо. Немного первое время совесть щемила, но пощемила и перестала. Зато никаких сюрпризов.
– Нет, так нельзя, – тихо сказала Клава. – Вы все обозлились на этой войне. Оно понятно, но нехорошо это. Вот Платонов был не такой. Он был человечный. Может, потому у нас с ним так и получилось. Он другого человека чувствовал как себя самого.
– Вот-вот-вот! – подхватил Левчук и сел ровно. – Человечный! Через эту его человечность вот как тебе быть? Да и нам тоже...
– Что ж, может, и будет плохо. Но все равно он хороший. Главное – добрый. А доброта не может стать злом.
– Что ты говоришь? – язвительно удивился Левчук и вскочил на ноги. – Не может? Вот смотри. Я буду добрый и скоренько сплавлю тебя куда в деревню. В первую попавшуюся. Ты же хочешь, чтобы скорее куда определиться. Ведь правда? Чтобы тебе успокоиться. Вот я тебя и пристрою. А немцы через день и схватят. Так нет, я недобрый, я тебя мучаю вот, тащу, а ты проклинаешь меня, правда? И все-таки я, может, туда затащу, где спокойнее. Где ты родишь по-человечески. И присмотреть будет кому.
Ознакомительная версия.