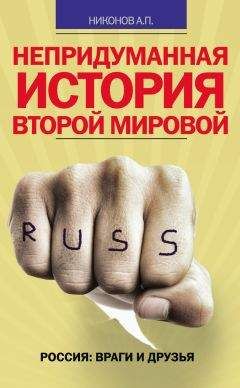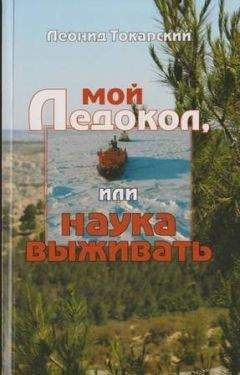Не менее точно характеризовал Сталина человек, не только прекрасно и давно его знавший, но и написавший о Сталине несколько книг — Лев Троцкий:
«…интеллект Кобы, лишенный воображения и бескорыстия, малопроизводителен. К тому же этот упорный, желчный, требовательный характер, вопреки созданной за последние годы легенде, совсем не трудолюбив. Культура умственного труда ему несвойственна. Все, кто ближе соприкасался с ним в более поздние периоды, знали, что Сталин не любит работать. «Коба — лентяй», — говорили не раз с полуснисходительной усмешкой Бухарин, Крестинский, Серебряков и другие. На то же интимное качество осторожно намекал иногда и Ленин. В склонности к угрюмому ничегонеделанию сказывалось, с одной стороны, ориентальное происхождение, с другой — неудовлетворенное честолюбие. Нужна была каждый раз властная личная причина, чтобы побудить Кобу к длительному и систематическому усилию. В революции, которая оттесняла его, он такой побудительной причины не находил. Оттого его вклады в революцию кажутся такими мизерными по сравнению с тем вкладом, какой революция внесла в его личную жизнь».
«Личная жизнь подпольных революционеров была отодвинута на задний план и придушена, но она существовала. Как пальмы на пейзажах Диего Ривера, любовь из-под тяжелых камней прокладывала себе дорогу к солнцу. Чаще всего, почти всегда, она была связана с революцией. Единство идей, борьбы, опасностей, близость в изолированности от остального мира создавали крепкие связи. Пары соединялись в подполье, разъединялись тюрьмою и снова находили друг друга в ссылке. О личной жизни молодого Сталина мы знаем мало, но тем более ценно это малое для характеристики человека.
«В 1903 г. он женился, — рассказывает Иремашвили. — Его брак был, как он понимал его, счастливым. Правда, равноправия полов, которое он выдвигал как основную форму брака в новом государстве, в его собственном доме нельзя было найти. Да это и не отвечало совсем его натуре — чувствовать себя равноправным с кем-нибудь. Брак был счастливым потому, что его жена, которая не могла следовать за ним, глядела на него как на полубога, и потому, что она, как грузинка, выросла в священной традиции, обязывающей женщину служить»…
Жена Кобы — мы не знаем даже ее имени — умерла в 1907 г., по некоторым сведениям, от воспаления легких… Политическая отчужденность не помешала Иремашвили посетить Кобу по случаю смерти жены, чтоб принести ему слова утешения: такую силу сохраняли еще традиционные грузинские нравы… Умершую похоронили по всем правилам православного ритуала. На этом настаивали родственники жены, и Коба не сопротивлялся. «Когда скромная процессия достигла входа на кладбище, — рассказывает Иремашвили, — Коба крепко пожал мою руку, показал на гроб и сказал: «Coco, это существо смягчало мое каменное сердце; она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям».
«…Верещак поражается «механизированной памятью» Кобы, маленькая голова которого «с неразвитым лбом» включала в себя будто бы весь «Капитал» Маркса. «Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим… Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу по Марксу. На непросвещенных в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление». К числу «непросвещенных» относился и сам Верещак. Молодому народнику, воспитавшемуся на истинно русской беллетристической социологии, марксистский багаж Кобы мог казаться чрезвычайно солидным. На самом деле он был достаточно скромен. У Кобы не было ни действительных теоретических запросов, ни усидчивости, ни дисциплины мысли. Вряд ли правильно говорить об его «механизированной памяти». Она узка, эмпирична, утилитарна, но, несмотря на семинарскую тренировку, совсем не механизирована. Это мужицкая память, лишенная размаха и синтеза, но крепкая и упорная, особенно в злопамятстве. Совсем неверно, будто голова Кобы была набита готовыми цитатами на все случаи жизни. Начетчиком и схоластом Коба не был. Из марксизма он усвоил, через Плеханова и Ленина, наиболее элементарные положения о борьбе классов и о подчиненном значении идей по отношению к материальным факторам. Крайне упрощая эти положения, он мог, тем не менее, с успехом применять их против народников, как человек с револьвером, хотя бы и примитивным, успешно сражается против человека с бумерангом. Но Коба оставался по существу безразличен к марксистской доктрине в целом.
Во время заключения в тюрьмах Батума и Кутаиса Коба, как мы помним, пытался проникнуть в тайны немецкого языка: влияние германской социал-демократии на русскую было тогда чрезвычайно велико. Однако совладать с языком Маркса Кобе удалось еще меньше, чем с доктриной. В бакинской тюрьме он принялся за эсперанто как за язык «будущего». Этот штрих очень наглядно раскрывает интеллектуальный диапазон Кобы, который в сфере познанья всегда искал линии наименьшего сопротивления. Несмотря на восемь лет, проведенных им в тюрьмах и ссылке, ему так и не удалось овладеть ни одним иностранным языком, не исключая и злополучного эсперанто.
По общему правилу, политические заключенные старались не общаться с уголовными. Кобу, наоборот, «можно было всегда видеть в обществе головорезов, шантажистов, среди грабителей-маузеристов». Он чувствовал себя с ними на равной ноге. «Ему всегда импонировали люди реального «дела». И на политику он смотрел, как на «дело», которое надо уметь и «сделать» и «обделать». Это очень правильно подмечено. Но именно это наблюдение лучше всего опровергает слова насчет механизированной памяти, начиненной готовыми цитатами. Коба тяготился обществом людей с более высокими умственными интересами. В Политбюро в годы Ленина он почти всегда сидел молчаливым, угрюмым и раздраженным. Наоборот, он становился общительнее, ровнее и человечнее в кругу людей первобытного склада и не связанных никакими предрассудками. Во время Гражданской войны, когда некоторые, преимущественно кавалерийские, части разнуздывались и позволяли себе насилия и бесчинства, Ленин иногда говорил: «Не послать ли нам туда Сталина, он умеет с такими людьми разговаривать».
Зачинщиком тюремных протестов и демонстраций Коба не был, но всегда поддерживал зачинщиков. «Это делало его в глазах тюремной публики хорошим товарищем». И это наблюдение правильно. Инициатором Коба не был ни в чем, нигде и никогда. Но он был весьма способен воспользоваться инициативой других, подтолкнуть инициаторов вперед и оставить за собой свободу выбора…
Благодаря условиям тюрьмы, Верещак без труда подметил ту черту Сталина, благодаря которой он долгое время мог оставаться неизвестным: «…это способность втихомолку подстрекнуть других, а самому остаться в стороне». Дальше следуют два примера. Однажды в коридоре «политического» корпуса жестоко избивали молодого грузина. По коридору проносилось зловещее слово «провокатор». Только подоспевшие солдаты прекратили избиение. Снесли на носилках в тюремную больницу окровавленное тело. Провокатор ли? И если провокатор, то почему не убили? «Обыкновенно провокаторов, в доказанных случаях, в баиловской тюрьме убивали», — отмечает мимоходом Верещак. «Никто ничего не знал и не понимал. И лишь спустя много времени выяснилось, что слух исходил от Кобы». Был ли избитый действительно провокатором, установить не удалось. Может быть, это был просто один из тех рабочих, которые выступали против экспроприаций или обвиняли Кобу в доносе на Шаумяна? Другой случай. На ступеньках лестницы, ведущей в политический корпус, некий заключенный, по прозвищу Грек, убил ножом молодого рабочего, только доставленного в тюрьму. Сам Грек считал убитого шпионом, хотя лично никогда раньше не встречал его. Кровавое происшествие, естественно взволновавшее тюрьму, долго оставалось невыясненным. Наконец, Грек стал проговариваться в том смысле, что его, видимо, зря «навели». Наводка же исходила от Кобы.
Кавказцы легко воспламеняются и прибегают к ножу. Холодному и расчетливому Кобе, знавшему язык и нравы, нетрудно было натравить одного на другого. В обоих случаях дело шло, несомненно, о мести. Подстрекателю не нужно было, чтобы жертвы знали, кто виновник их несчастья. Коба не склонен делиться чувствами, в том числе и радостью удовлетворенной мести. Он предпочитает наслаждаться один, про себя. Оба эпизода, как ни жутки они, не кажутся невероятными; позднейшие события придают им внутреннюю убедительность… В баиловской тюрьме идет подготовка к будущим событиям. Коба набирается опыта, Коба крепнет, Коба растет. Серая фигура бывшего семинариста с рябинками на лице отбрасывает от себя все более зловещую тень».
Еще одним человеком, близко видевшим Сталина, был переводчик Сталина Валентин Бережков, написавший книгу воспоминаний:
«…я впервые увидел Сталина в конце сентября 1941 года на позднем обеде в Кремле, устроенном в честь миссии Бивербрука-Гарримана. Гости собрались в помещении, примыкавшем к Екатерининскому залу, незадолго до 8 часов вечера. Все ждали появления Сталина. Наконец отворилась высокая дверь, но это был не он, а два офицера из его охраны. Один остановился у двери, другой занял позицию в противоположном углу. Прошло еще минут десять. Видимо, в этом был определенный смысл: свое появление «хозяин» преднамеренно затягивал, чтобы подогреть нетерпение публики.