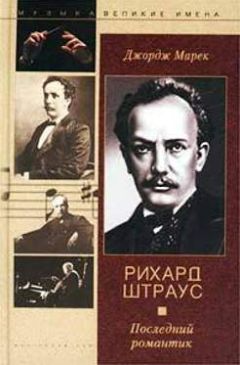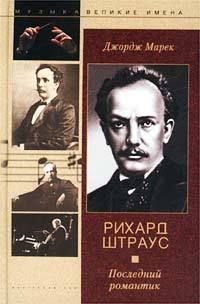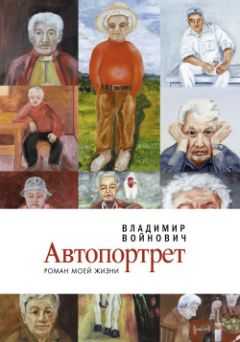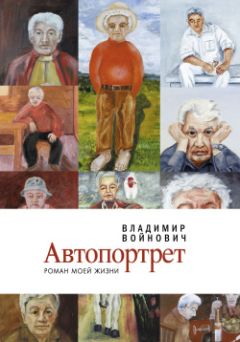В работе над «Арабеллой» Штраус был, как никогда, требователен. Казалось, он пытался возместить свое беспечное отношение к «Елене». «Не сердитесь на меня, — писал он Гофмансталю, — но у меня опять возникли возражения». И возражения эти он излагал иногда в дипломатичной, а иногда в грубо-откровенной форме.
У Гофмансталя, например, Арабелла совершает простое действие — дает своему жениху стакан чистой воды. «Нет, — возражал Штраус, — в «Елене» было выпито слишком много волшебных настоев». Гофмансталь ответил: «У меня не укладывается в голове, что из-за волшебных настоев в «Елене» Арабелла не может предложить гостю стакан воды». И тут Штраус вдруг предлагает: может быть, Мандрыка, потрясенный ее кажущейся изменой, стреляется, а Арабелла предлагает стакан воды умирающему? В конце концов, сюжет не обязательно должен быть последовательно комическим. Разве в нем не заложен значительный элемент трагедии? Переписка продолжалась в том же духе до бесконечности.
А что же Гофман сталь? Он с удивительным терпением писал и переписывал сцены, стараясь удовлетворить все требования Штрауса — но не ценой собственного художественного вкуса. Только однажды он издал вопль протеста: «Мне приходит в голову, что, не желая и даже не сознавая этого, мы вступили в наших отношениях в ту же фазу, которая наступает у супругов после пятнадцати лет брака и бороться с которой они бессильны: я имею в виду внутреннюю усталость, охлаждение».[275] В других письмах он просил Штрауса «доверять своему старому, но все еще бодрому либреттисту» и передавал ему, как обычно, комплименты восхищенных поклонников в свой адрес. Один из них якобы даже утверждал, что «Арабелла» сконструирована лучше, чем «Кавалер роз». Ее хвалили и Верфель, и Вассерманн.
Если опера, которую в конце концов создали Штраус и Гофмансталь, была не столь хороша, как им мечталось, виной этому отчасти была послевоенная слабость выжатой как лимон Европы, агония, охватившая Германию и Австрию и сказавшаяся на двух талантливых людях, которые были продуктами другой эпохи. Призрак времени словно пиявка разжижал их кровь.
Их сотрудничество закончилось внезапно и ужасно. В апреле 1929 года Штраус заболел. В мае он поехал восстанавливать здоровье в свою любимую Италию. А потом — в Карлсбад, лечиться водами. Вернувшись в Гармиш, он продолжал бомбардировать Гофмансталя письмами с просьбой переделать первый акт. 10 июля Гофмансталь прислал ему текст нового варианта, написав, что внес кардинальные изменения, особенно в сцену объяснения между двумя сестрами и в заключительный монолог Арабеллы, которому придал по возможности лирический характер. Штраус потратил три дня на прочтение нового текста, и вечером 14 июля послал своему партнеру телеграмму: «Первый акт великолепен. Примите искреннюю благодарность и поздравления. Ваш Штраус». Телеграмма пришла адресату 15 июля, но он ее так и не прочитал.
Это был день похорон его старшего сына Франца, который за два дня до этого покончил с собой. (Причина его самоубийства неизвестна и по сей день. Я не смог обнаружить никаких фактов. Высказывалось множество догадок — от предположения, что Франц заболел неизлечимой болезнью, до теории, что он, бездарный сын знаменитого отца, устал от свой ничтожной и бесцельной жизни.)
Гофмансталь был в страшном горе. Он не плакал, но в молчаливой тоске сидел у себя в кабинете. Он пытался собрать в кулак всю душевную силу аристократа, чтобы не поддаться отчаянию. Он настаивал на своем присутствии на похоронах сына. В утро дня похорон Гофмансталь оделся и нагнулся за своей шляпой. Вдруг он пробормотал жене: «Мне нехорошо». Его язык едва ворочался, речь была почти невнятной, лицо исказилось. Герти поняла, что с мужем происходит что-то очень скверное. Она смотрела на него, а он с трудом выговорил: «Что ты на меня смотришь?» Но к зеркалу не пошел. Ему расстегнули воротник и уложили на диван. Через несколько минут он умер от инсульта, так и не придя в полное сознание. 18 июля его похоронили на маленьком кладбище Пфарркирхе в Родауне. Церковь была переполнена цветами и людьми, пришедшими с ним проститься. «Казалось, что в Вене оборвали все розы», — писал Кесслер. Но Штрауса на похоронах не было.
Он написал вдове Гофмансталя:
«После ужасного сообщения о смерти вашего несчастного сына, которое я получил вчера, теперь этот страшный удар — и для вас, и для ваших детей, и для меня, и для всего мира искусства. Я до сих пор не могу в это поверить и не нахожу слов, чтобы выразить свою скорбь. Какой ужас!
Этот гений, этот великий поэт, этот прекрасный партнер, этот дорогой друг, этот уникальный талант! Ни у одного музыканта не было такого помощника и единомышленника. Никто не заменит его для меня и музыкального мира. Будущее воздвигнет ему достойный памятник — памятник, который я давно уже воздвиг ему в своем сердце: памятник непреходящей благодарности и истинного восхищения своим самым драгоценным другом. Эти чувства останутся со мной до моего последнего часа. Замечательное либретто, которое он послал мне незадолго до своей трагической кончины и за которое я смог поблагодарить его лишь в короткой телеграмме, останется последней великолепной страницей в списке трудов этого благородного человека, чистого в своих чувствах и помыслах. Я глубоко потрясен, и к тому же все еще нездоров, так что даже не смогу проводить моего незабвенного друга в последний путь. Мы пока не знаем, когда состоятся похороны. Мой сын и Алиса немедленно уезжают в Вену. Если они успеют на похороны, они будут представлять меня и мою жену у гроба человека, которого я никогда не забуду. Паулина тоже скорбит вместе с вами. Еще раз примите, и вы и ваши дети, мое искреннее соболезнование и пожелание твердости в вашем горе.
Ваш глубоко скорбящий
доктор Рихард Штраус».[276]Герти говорила Кесслеру, что гибель сына не была причиной смерти Гофмансталя. Еще за три года до этого доктора обнаружили у него склеротическое затвердевание артерий. После самоубийства Франца Гуго не перестал заниматься своими обычными делами. Писал письма, много и замечательно говорил о смысле смерти, хотя также подолгу горько плакал.
Когда Штраус немного оправился от горя, перед ним возник вопрос: что делать с текстом «Арабеллы»? Бросить работу над оперой или продолжать? Поскольку либретто его не совсем удовлетворяет, не призвать ли на помощь другого либреттиста? Или самому попытаться исправить то, что ему не нравится? Наконец он решил оставить текст в нетронутом виде и продолжать сочинять к нему музыку.
Это заняло у него больше трех лет, и он окончил партитуру только в октябре 1932 года. Как-то он сказал, что к тому времени, когда «Арабелла» будет готова, он будет семидесятилетним старцем. Ему удалось опередить свое собственное предсказание на два года.
Основное свойство «Арабеллы» — это неровность. Неровность во вдохновении, неровность в драматизме, неровность в музыкальном воплощении персонажей. Штраус уже мало что мог сказать нового; однако, когда ему удавалось облечь старые мысли в новые мелодии, результат был блестящий. Типичным примером этой неровности является начало оперы, где вслед за скучной сценой с гадалкой идет скучный диалог Зденки и Маттео. А затем следует прелестный дуэт двух сестер, где Арабелла признается: «Он не тот человек, который мне нужен». Штраус с нежностью и мудростью написал музыкальные портреты этих двух девушек, одна из которых более уверена в себе, чем другая, но обе смотрят в будущее с надеждой, и обе с любопытством ждут, что им уготовано судьбой. Сцену ссоры между Мандрыкой и отцом Арабеллы я нахожу топорной, но зато заключительная сцена акта, над которой Штраус работал особенно долго, написана в его лучших романтических традициях. В ней Арабелла размышляет о природе мужчин, и музыка придает значительность бесхитростным мыслям юной девушки.
Большая часть второго акта, который, по мысли композитора, исполнен веселья, невыразимо скучна, исключая прекрасный дуэт Арабеллы и Мандрыки. Сцена бала извозчиков просто ужасна. Ария Королевы бала — явно попытка создать колоратурную партию в стиле Зербинетты, но какая разница между ней и более ранним творением Штрауса!
Третий акт «Арабеллы» наиболее хорош с музыкальной точки зрения, но даже и здесь налицо сходство с мелодиями из «Кавалера роз». Лучше всего финал оперы. Между прочим, это характерно для Штрауса: даже в самых своих слабых произведениях он находит вдохновение для финальной сцены. (Исключение составляет лишь финал «Ариадны».) Гофмансталь написал для финала кристально чистый текст, достойный его прежнего мастерства, простой, свободный от нагромождений и проникнутый истинным чувством.
Но в целом опера вызывает разочарование — слишком много в ней пустых, неодухотворенных страниц. Опять повторяю: ее основное свойство — неровность. Однако есть люди, которым она нравится. Роберт Сабин, рецензируя новую запись оперы на долгоиграющую пластинку, писал в «Америкэн рекорд гайд» в августе 1964 года, что «Арабелла» — одно из величайших творений Штрауса: «В «Арабелле» Штраус говорит о вечных общечеловеческих истинах (так же как Верди — в «Фальстафе»), облекая их в маску непосредственности и наивности». В наши дни «вечные истины» не очень-то высоко ценятся.