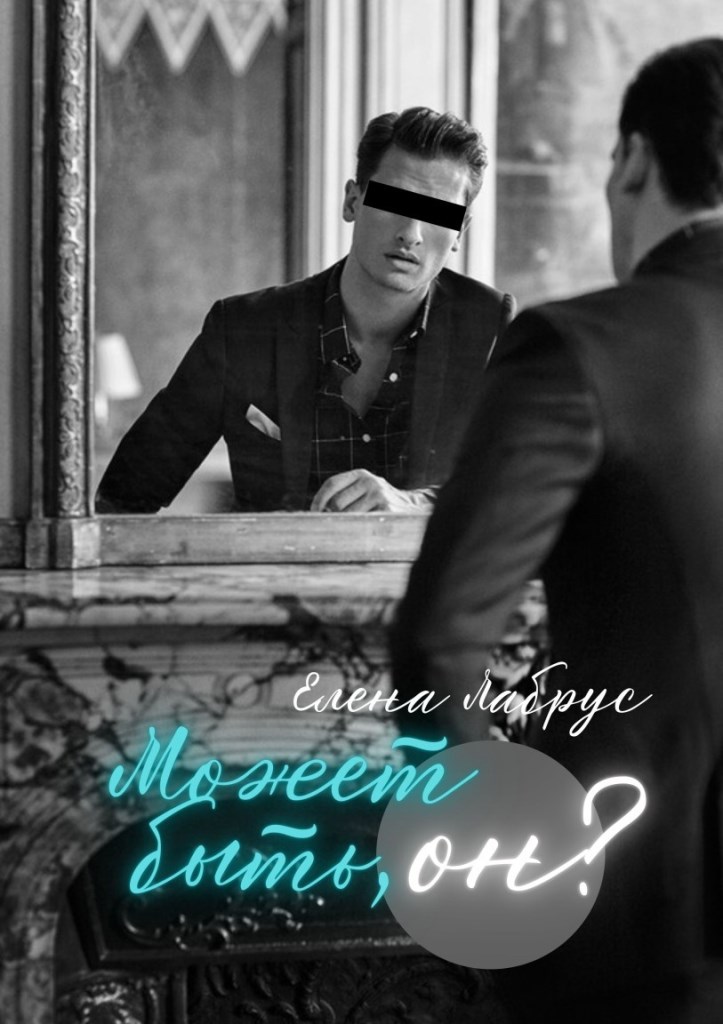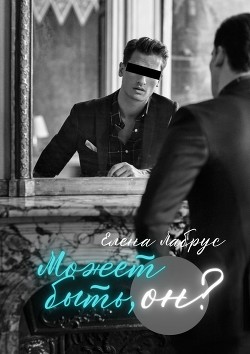мою жизнь в этой камере хоть немного не такой беспросветной.
Парень, что приносил еду.
Его голос. Его руки. Его имя. Захар.
Лица его я почти не видела, лишь когда он наклонялся, чтобы наложить кашу или налить из бака раздачи тёмный, но безвкусный чай. Но то, что видела — сильные руки, форма работника кухни, гладко выбритая скула, жёсткий подбородок и, словно в противовес ему, крупные пухлые губы,— заставляли моё глупое сердечко биться как сумасшедшее.
И голос, низкий, мягкий. Добрый. Никто не относился ко мне здесь по-доброму. Только он.
— Для вас кашу с молоком или без? Сегодня гречка.
Когда рядом стояла охрана, он всегда обращался на «вы», вежливо, нейтрально. А когда охраны не было — звал меня Сверчок и улыбался.
Сейчас я видела только нижнюю часть его лица, замершую в ожидании, но знала, что как только получит ответ, он наклонится. И тогда мне будут видны густые загнутые ресницы, тёмные брови, высокий лоб, прикрытый белой поварской шапочкой. И если повезёт — глаза. Серые, колдовские, дымчатые. Облачные. Как небо в дождливый день. Или горное озеро, в котором отражаются облака.
Захар.
— Молоко отдельно, — замерла я у окошка. Не дыша.
Половник звонко стукнул о бак, потом глухо — о пластиковую тарелку, а потом… потом наши глаза встретились. Коротко, остро, всего на один миг, но это был такой долгий миг, что я забыла дышать, покачнулась и услышала, как громко, на всю камеру, забилось сердце.
Он подал разнос. Я взяла. Иногда он держал тарелку так, что наши руки касались.
Но не сегодня.
Окошко захлопнулось. А проклятое сердце стрекотало, как тот самый испуганный сверчок.
Кто он? За что сидит? Где-то я слышала, кажется, на единственной за две недели, что я здесь, прогулке, бывалые обсуждали: у кого статья за хранение наркоты, и кто первый раз, того могут оставить мотать срок в СИЗО, берут работать на кухню и даже платят зарплату. Правда, только парней.
У меня статья за хранение, и я первый раз, но, во-первых, подследственная, а не осужденная, во-вторых, не парень, а в-третьих, со мной была совсем другая история. Урод, что подкинул мне наркотики, приходил каждый вечер, чтобы надругаться и ждал моего дня рождения, чтобы засунуть в меня свой здоровый хрен, был директором тюрьмы. Поэтому я здесь.
И шансов у меня нет.
Я не знала, какие в тюрьме порядки. Не знала, как живут другие арестанты. Не знала, что можно и чего нельзя. Я сидела в отдельной камере. Слышала команду «Подъём!» и вставала. Слышала «Отбой!» и ложилась.
Я сидела в камере одна, и не ждала ни передач, ни писем, ни адвоката. За меня некому заступиться. Меня никто не искал и не будет искать, когда моё истерзанное тело, с которым Урод нарезвиться, выкинут на тюремную свалку. Меня даже не похоронят — здесь у меня нет имени. Только номер камеры и прозвище.
— Ну что, Блондиночка, — оголял передо мной свой бордовый от напряжения член Урод и поддрачивая, чтобы крепче стоял, совал мне в рот. — Соси прощения, — лыбился он, довольный шуткой.
Я давилась. Кашляла. Едва сдерживала рвотные порывы, но знала, что блевать нельзя. Как бы ни хотелось. И сперму надо глотать. Иначе это одним разом не закончится. И что он сделает в следующий, трудно и предположить.
Первый раз, когда меня вырвало, он макнул меня в рвоту лицом, а потом размазал по волосам. Дома мы были одни. Квартира была заперта изнутри на «собачку». Затем на кухонном столе он уложил меня на спину и лизал. Лизал вдохновенно, наверное, со знанием дела. Лизал пока я не кончила.
— Ну вот, говоришь, тебе не нравится, — встал он с колен, вытер моими трусами опавший член, застегнул штаны, — а сама намокла, как сучонка. И корчилась от вожделения как дешёвая шлюшка. Люблю, как ты кончаешь. Испуганно, вопреки. Но это оргазм, Блондиночка, его не остановить, — смеялся он. — И ты меня хочешь, хоть и не признаёшься. Ещё как хочешь! Иди мойся, — кивнул он на ванную. — А то сейчас Маринка вернётся с работы, а мы тут с тобой, — хмыкнул он. — И да, убери это, — показал он на остатки рвоты. — Но делать минет ты научишься. И не надейся, что нет.
Я научилась. Дышать носом. Подавлять тошноту. Глотать сперму.
И мечтала однажды откусить его чёртов хрен. Сжать челюсти, как акула, и не отпускать. Если бы после этого он меня убил — приняла бы смерть с радостью. Только скорее он выбьет мне зубы, сломает руки и ноги, но не отпустит. А ещё хуже — покалечит Оксанку или её маму. Так уже было…
Первые несколько недель я терпела, когда он приходил каждую ночь, что оставался ночевать, нечасто. Трогал, гладил, заставлял ласкать его член. Но потом он пришёл днём, когда никого не было: Оксанкина мама на работе, Оксанка — у репетитора.
На свою беду я была в ванной. Он выбил замок. Долго и тщательно меня мыл. Положив на себя, намыливал душистой пеной, и кончил, толкая свой член между моих плотно сдвинутых бёдер.
А потом сказал, что теперь будет здесь жить, а не наведываться время от времени: они с Маринкой скоро поженятся, и он переедет к ней.
Я собрала свои вещи и в тот же день сбежала.
Пойти мне было некуда. Денег у меня не было. Доступа в квартиру и к маминому счёту — тоже. Одноклассники от меня отвернулись: я теперь была подругой Палки. Да и я, после всего, что случилось, особо общаться не рвалась. Тёть Лена ещё не вернулась а, может, тоже не хотела меня видеть: её телефон молчал. Других друзей у меня не было, разве что Гринёв, что и наградил Оксанку обидной кличкой и прохода в школе не давал. Но к Гринёву, которого знала с детства, я бы обратилась в последнюю очередь. В крайнем случае. Он меня предал. Бросил. Отвернулся вместе со всеми. Ну и пусть катится!
По улицам ходить было холодно. Ноябрь. Но везде уже стояли ёлки, продавалась мишура и нарядные игрушки, люди покупали