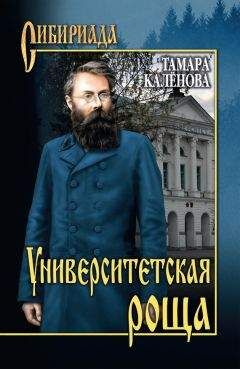Славка зашел в комнату Лиды. Лида готовила зеленый чай, купленный из любопытства.
— А где все? — озираясь в непривычно-тихой комнате, спросил Славка.
— Кто где: коммуна — в четырнадцатой. Измаил на волейболе. Егор у себя, в студсовете, — ответила Лида.
— А Гришка? — цепляясь за последнюю надежду завести мужской разговор, спросил Славка.
О Маше он не спросил, уверенный, что она с Измаилом.
Лида грустно улыбнулась:
— Наш Гришка, — сказала она, — чинит утюг в тридцать третьей комнате...
Славка пожал плечами. Чинит — значит, надо. И при чем здесь задумчивость, грустная улыбка? Странные эти девчонки! И Лида странная. Стала какой-то особенной, движения не прежние, не резкие, как бывало раньше, а словно пугливые.
— Женить Гришку надо, чтоб не шлялся по комнатам, — сказал Славка, беря стакан с зеленым чаем.
И тут же осекся: ложечка в стакане Лиды мелко-мелко задрожала, как в ознобе.
Лида заметила его взгляд, выбросила ложечку из стакана, хлебнула чаю. Обожглась. И на глазах ее появились крупные слезы.
— Осторожней, — виновато сказал Славка.
Лида не выдержала и расплакалась. По-настоящему, не стыдясь обомлевшего от удивления Славки.
— Ты что, старуха, ты что? — растерянно спрашивал он, похлопывая ее по плечу.
Лида была жалкая, беззащитная. На затылке просвечивала детски розовая кожа. Плечи, обтянутые тонкой вязаной кофточкой, вздрагивали.
Славке стало ее жаль. Девчонка ведь еще, а выдавала себя за сильную, мужественную...
— Пройдет! — прошептала Лида в ответ на его участие. — Понимаешь, все правильно. Гришка чинит утюг... Завтра — электроплитку... И все там, там, у химиц...
Только теперь Славка все понял.
«Утешать бесполезно, — подумал он. — От этого нет утешения. Слова только повредят, потому что в них будет сострадание и неправда».
Имя Гришки, произнесенное в слезах, прозвучало как признание.
Гришка влюбился традиционно, по-общежитски: начал заходить в комнату, чинить утюг или плитку... Славка знал, что подобная влюбленность примерно так и проявляется. Парень копается долго, тщательно, разговаривает с насмешницами девчонками. А та, которая чувствует, что он здесь ради нее одной, хохочет вместе со всеми, подтрунивает. Но при случайной встрече взглядов первая опускает глаза.
Гришка влюбился... Закономерно и неизбежно. Если бы только не Лида!
Почти у каждого человека есть этот третий, перед которым делается неловко от собственного счастья. Почти у каждого!
У Маши — это он, Славка. С ним и она и Измаил, без вины виноватые, словно стыдились своего счастья. Он видел это, но ничем не мог помочь — ни себе, ни им.
У Гришки — Лида. Гришка, не замечающий ничего и никого, рано или поздно все равно почувствует ее присутствие, ее затаенное и горькое положение третьего.
Да, все эти незримые ниточки перепутались, но были сильными и живучими. Лида утирала слезы.
— Держись, старуха, — буркнул Славка и почувствовал, что даже эти слова звучат фальшиво. Какое там «держись», если она так откровенно плачет!
Лида кивнула, попыталась улыбнуться — получилось криво, некрасиво... Она почувствовала это и, торопливо простившись, вышла из комнаты.
XVIII
Славка посидел с минуту в ожидании, хотя отлично знал, что все поразбежались, вернутся не скоро.
Потом отправился бродить по другим комнатам. Зашел туда, где Скальд рассказывал очередной анекдот:
— ...Среди обломков всплывает боцман, отфыркивается и говорит помкэпу: «Слушай... ты сам дурак, и шутки у тебя какие-то дурацкие».
Славка послушал и ушел из комнаты Скальда, как всегда, незамеченным. Ибо в этой комнате не придавали никакого значения ни приходам, ни уходам.
Измаила с Машей нигде не было. Гришки тоже. Но Славка не чувствовал себя одиноким. Ему вспоминались стихи какого-то поэта, из общежития. Как там?..
Когда грустно, когда обидно,
когда края тревог не видно,
когда ветер — бродяга вечный,
словно пьяный, пугает встречных
и мороз шевелит усами,
вы придите и сядьте с нами.
Вы придите к нам в общежитие,
на семейное чаепитие,
отдохнете вы с нами вместе,
а потом — все правильно — песни!
а потом — все правильно — споры,
и остроты, и разговоры.
В вас тогда появится воля...
«Да, точно, — подумал Славка, — появится воля!»
Ни с кем он так и не поговорил. Но именно в тот вечер Славка отчетливо и определенно сказал себе: «Чего тянуть? Имеешь возможность для эксперимента — воспользуйся!»
«Возможностью для эксперимента» он называл свободу от опеки инженера Клюева.
***
Взъерошенный, как воробей, Славка метался по стройплощадке.
— Майнай! Майнай, черт тебя побей!! — кричал он мотористу лебедки.
Люльку с маляром то и дело притормаживало, она опускалась страшно медленно. А Славке казалось, что все делается медленно: медленно размешивается состав покрытия, краскопульт медленно разбрызгивает жидкость.
Было холодно. Вода в бочке ощетинилась льдом. От ветра покалывало в висках.
— Чтой-то цемент не берется, — пожаловался Славке пожилой бригадир Минеев.
Славка встревожился, но отогнал плохие мысли. Все в этот вечер делалось медленно, почему бы и цементу не покапризничать, не схватиться медленнее, чем обычно?
Славка залез в люльку и сам принялся за покраску. Покрытие ложилось на штукатурку красиво и надежно. Даже в вечерней темноте выступало что-то густо-красное, горячее на взгляд.
Люльку смайнали, Славка выпрыгнул. Сердце его колотилось геройски.
— Давай! Шуруй, Степан Алексеевич! Все правильно!
Люлька снова поползла по огромной четырехэтажной стене, задерживаясь в простенках между окон. Постепенно дом темнел, словно наливался румянцем.
Свет прожекторов создавал праздничное настроение.
Убедившись, что все идет как надо, Славка срывающимся от нетерпения голосом дал распоряжение запустить второй подъемник с люлькой по другую сторону здания.
Его настроение передалось и рабочим. Не было слышно ни шуточек, ни выкриков. Негромкий разговор — по необходимости — да перещелк пусковых кнопок подъемников.
Дом одевался в новую одежду некрикливо и деловито.
«Ты мой. Мой, — торжествуя, думал Славка. — Я тебя придумал таким! Ты в моей власти! Безногий, тебе некуда убежать от меня, и в этом твое счастье. Теперь ты станешь не похож на все, что были до тебя!»
Славка опустился на старые бракованные перемычки — отдохнуть. Возбуждение от удачно начатого эксперимента не покидало его, но откуда-то вдруг взялась свинцовая усталость.
В четыре утра все было закончено. Выключили подъемники, прожекторы. Рабочие разошлись.
Славка тоже поплелся домой, сквозь дремучую усталость чувствуя, как в его сердце стучится жажда славы и желание заслуженной награды за такую вот ночь.
XIX
Наподобие открытой форточки на высоте пяти-шести метров у березы оторвался кусок коры. Он хлопал с отчаянием по стволу, не в силах прилепиться заново. Резкий леденящий ветер, казалось, проникал внутрь, в самое сердце дерева.
В университетской роще уже было по-зимнему неприютно. Притухшие сосны темнели островками.
Мимо засыпающих деревьев брели Гришка, Измаил и Лида. Они теперь часто бродили втроем. По молчаливому уговору о Маше старались не вспоминать. «Уехала, значит надо. Дело семейное», — говорил Гришка бодрым голосом и подтягивал уголки воротника к ушам.