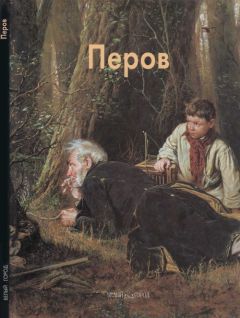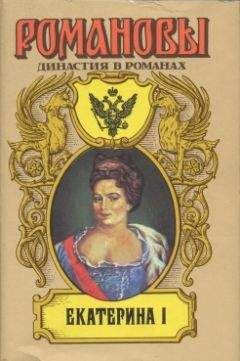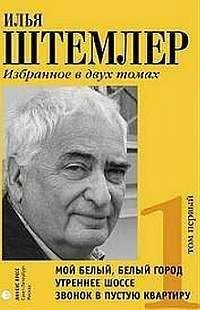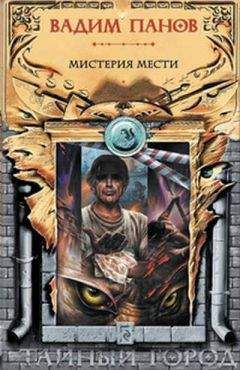Учитель рисования. 1867 Этюд
Ивановский художественный музей
Гитарист-бобыль. 1865
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Итогом этих настроений стала картина Последний кабак у заставы. Окраина города. Тревожные зимние сумерки. Улица, вливаясь в узкие ворота, уходит далеко в широкую гладь полей. Дорога занимает всю ширину первого плана, отчего зритель словно втягивается в своеобразную пространственную воронку: дорога круто взмывает вверх, вертикальное движение как бы подхватывается остроконечными столбами заставы и далее - едва заметной стайкой птиц. Первый план подчеркнут преграждающими дорогу санями, но это только временная остановка. Она позволяет разглядеть понурую фигуру женщины в санях, мерзнущую собаку, тусклые окна кабака под вывеской «Разставанье». В сером, холодном сумраке окна поблескивают тепловатым светом, но это не уютные огоньки домашнего очага на морозной вечерней улице. За их тревожной мутноватой краснотой угадывается пьяный угар.
Перов использует диссонанс холодных и теплых тонов: красноватый свет окон гасится густыми зимними сумерками, а лимонно-желтый закат приобретает ледяной оттенок. Навстречу светящемуся небу устремлено все движение в картине, но небо так же негостеприимно, как неуютная улица и зловещий кабак.
Заставляя взгляд скользить по бороздам дороги, художник исподволь внушает томительное желание вместе с ощущением невозможности вырваться из этого унылого однообразия. Здесь, в отличие от прежних картин, нет вообще никакого повествования, и даже нечего «дорисовать» в воображении, разве что вспомнить некрасовские строки о том,что
За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют мужики до рубля,
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут...
Но даже этот сюжет оказывается сведенным лишь к горящим окнам кабака. Оттого, что здесь «ничего не происходит», становится особенно тоскливо. Женская фигурка в санях ничего не выражает; собачка, которой в прежних картинах отводилась роль едва ли не самого активного действующего лица, не воет, не лает, не бежит, а просто стоит, и ее шерсть треплет поземка. Когда в картинах Перова хоть что-то происходило, и это происходящее было свидетельством зла, которое можно изжить и преодолеть, то предполагалось, по крайней мере, что это зло исчислимо, его можно назвать, на него можно указать. А здесь оно становится буквально безобразным, то есть не имеющим образа, неисчислимым и неопределимым. Вместо назывательной, содержательной функции слова первостепенное значение приобретает его интонация. Это музыка тоски, уныния и безразличия, монотонная жизнь, где не на чем остановить взгляд. Она не тусклая, не невзрачная, а вообще «никакая».
На первом плане слева в картине лежит сломанная веточка, точно такая же, как в Тройке. Эта деталь, по-видимому, «подсмотренная» Перовым в натуре и автоматически повторенная в двух картинах, вроде бы ничего не означает, кроме невнимания художника к мелким деталям, но одновременно способна вызвать досаду - «всюду одно и то же!», - относящуюся, в том числе, и к изображенной Перовым жизни, которая словно сосредоточена на «аршине пространства». Так же на большом временном промежутке повторяется в разных картинах (Чаепитие в Мытищах, Мальчик, готовящийся к драке, Рыболов), например, один и тот же глиняный кувшин.
Последний кабак у заставы. 1868
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Общеупотребительное выражение «творческий путь» есть следствие естественной потребности обозреть созданное любым художником в целом, в совокупности и в отношениях, линиях между отдельными произведениями, но также и между отдельными художниками. Само собой понятно, что эти линии, образующие траекторию пути, не существуют в момент совершения каждого отдельного шага. Так вот, при таком рассмотрении отдельных произведений и периодов под знаком целого, в творчестве Перова в последовательности чередований, группировок и соседств одних произведений и периодов относительно других вдруг проступает удивительная концептуальная логика. Например, отношения полярности между сугубо положительной настроенностью жанра
1870-х годов и сугубой критической направленностью жанра предшествующего десятилетия. Эта полярность приобретает характер программных манифестаций в случаях противоположности сходного. Такова перекличка обладающих непреложностью математической формулы триадических композиций в картине Тройка, являющейся безусловной кульминацией критического пафоса 1860-х годов, с открывающей 1870-е годы картиной Охотники на привале, где снова триада фигур, в которой воплощен слегка анекдотического свойства житейский юмор, разлитый во всех жанровых сценах Перова 1870-х годов. Причем, эта «смена вех» имеет здесь такой же принципиальный характер переворачивания на противоположные всех тезисов предшествующего периода, как то было прежде в Проводах покойника, относительно ранних произведений, или подобно тому, как в конце десятилетия бессобытийность Последнего кабака у заставы противопоставлена повествовательной детализации Сельского крестного хода, открывающего 1860-е годы.
Фомушка-сыч. 1868
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Портрет купца Ивана Степановича Камынина. 1872
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Попадающий точно на рубеж десятилетий сдвиг в сторону положительных явлений находит свое выражение сразу в двух направлениях. Одно - смена жанрового сюжета, переход к изображению отрадных сторон человеческого житья-бытья. Второе - возрастание опять-таки с самого начала 1870-х годов роли портрета. Портрет переводит объектив зрения с безотрадных жизненных обстоятельств на личность, способную, претерпевая, выстрадать, отразить и преодолеть гнет этих обстоятельств. То есть, независимо от того, как именно в конце концов будет показана эта личность, симптомом настроенности художественного внимания на положительное в жизни является сам факт возросшей значительности портрета в общем объеме художественных интересов.
Но, может быть, еще более поразительным воплощением этой в своем роде математической логики, является то, что вблизи рубежа 1860 - 1870-х годов, но еще в пределах десятилетия, где определяющую роль играет жанр, Перов создает два портрета, являющиеся в буквальном смысле «портретами в пределах жанра», изображающие не индивидуальные характеры, но персонажей, характеризующих определенные, сформировавшие их жизненные обстоятельства, то есть таких персонажей, которых называют типы.
Портрет писателя Владимира Ивановича Даля. 1872
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Портрет писателя Сергея Тимофеевича Аксакова
Саратовский художественный музей
Портрет историка Михаила Петровича Погодина. 1872
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Странник. 1870
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Первый из них - Фомушка-сыч с подозрительно-неодобрительной физиономической гримасой - может служить олицетворением критической позиции, как бы двойником художника, написавшего под именем Перова известные жанровые картины 1860-х годов (и кстати, написанный спустя два года Автопортрет враждебно-хмурым выражением определенно напоминает Фомушку-сыча); тогда как следующий Странник уже как бы обращен и «приветствует» Перова 1870-х годов. Он свободен от обусловленности только теми обстоятельствами, которые заставляют «нахохлиться», нахмуриться; ведь странник - именно тот, кто странствует, не будучи привязан к определенному окружению. Именно в аспекте такого более спокойного и благорасположенного взгляда пытается изобразить мир Перов в 1870-е годы. К этому необходимо добавить, что как раз с начала 1870-х годов именно такая настроенность художественной «оптики» становится общей для русского искусства в целом.
Итак, художник, оторвавшись от критической злободневности, отправляется в свободное странствие. Но знаменательно, что по жанру - это любопытствующее путешествие вдоль житейских пристаней, образуемых мирными радостями обычного досужества, которыми человек утешается поперек жизненных невзгод, осуществляя непреложное «привычка свыше нам дана, замена счастию она». Но и портреты Перова в облике моделей, костюме, деталях окружения, воссоздают ту же самую неброскую, привычную, несколько скучноватую прозаическую житейскую среду. Они принципиально одомашнены, интерьерны. В них разлита уютная тихость. Александр Островский - с добродушно ясным взором светло-серых глаз, в теплом халате, спокойно-доверительно, но без аффектации любопытства или особенной заинтересованности склонившийся в сторону зрителя, увиденный как бы в приятельском кругу. Владимир Даль - опять-таки по-домашнему удобно и надолго устроившийся, как в нише, в глубоком кресле, как-то особенно надежно огражденный от внешнего мира мягкими боковыми выступами, прилегающими к спинке.