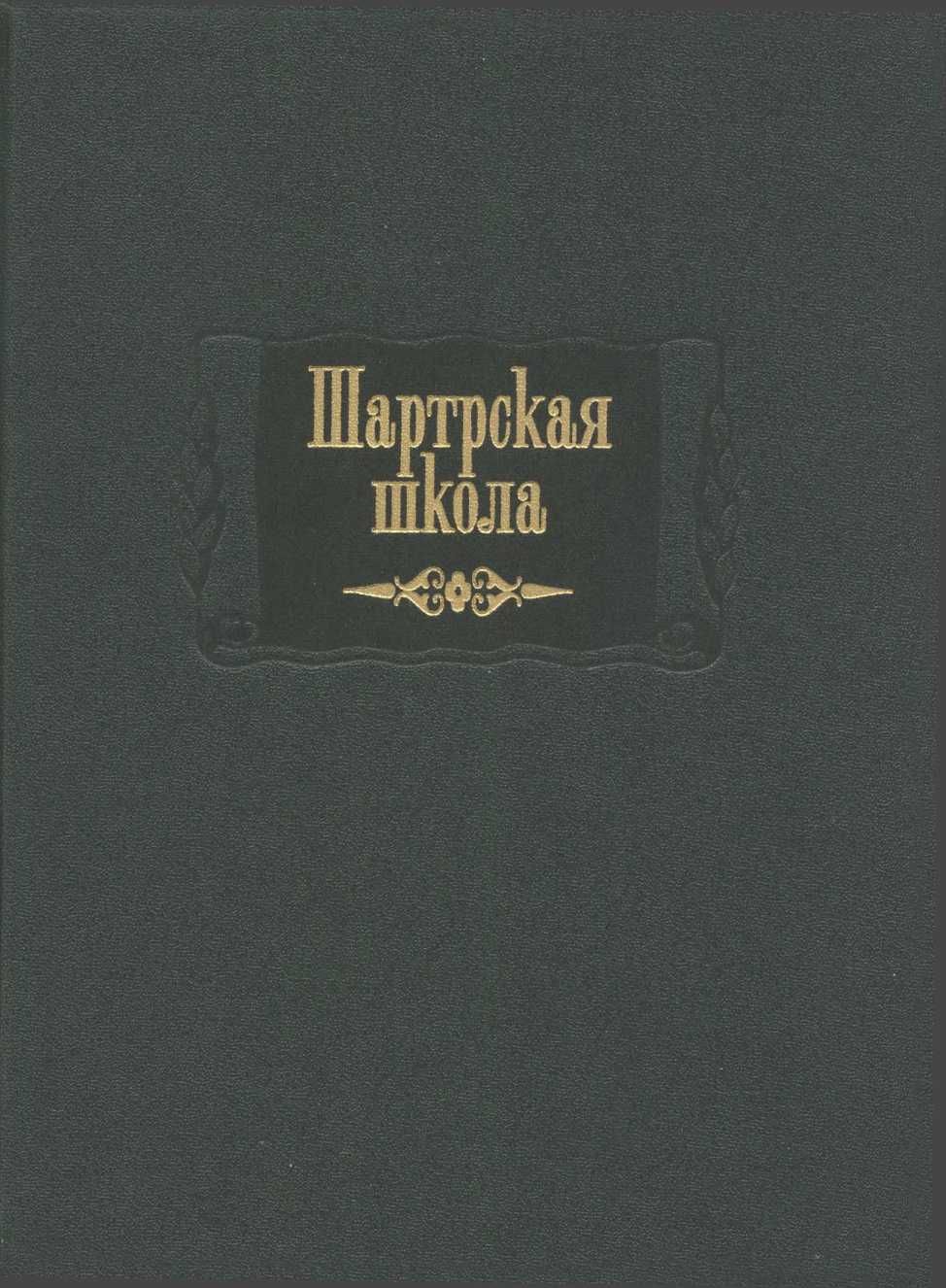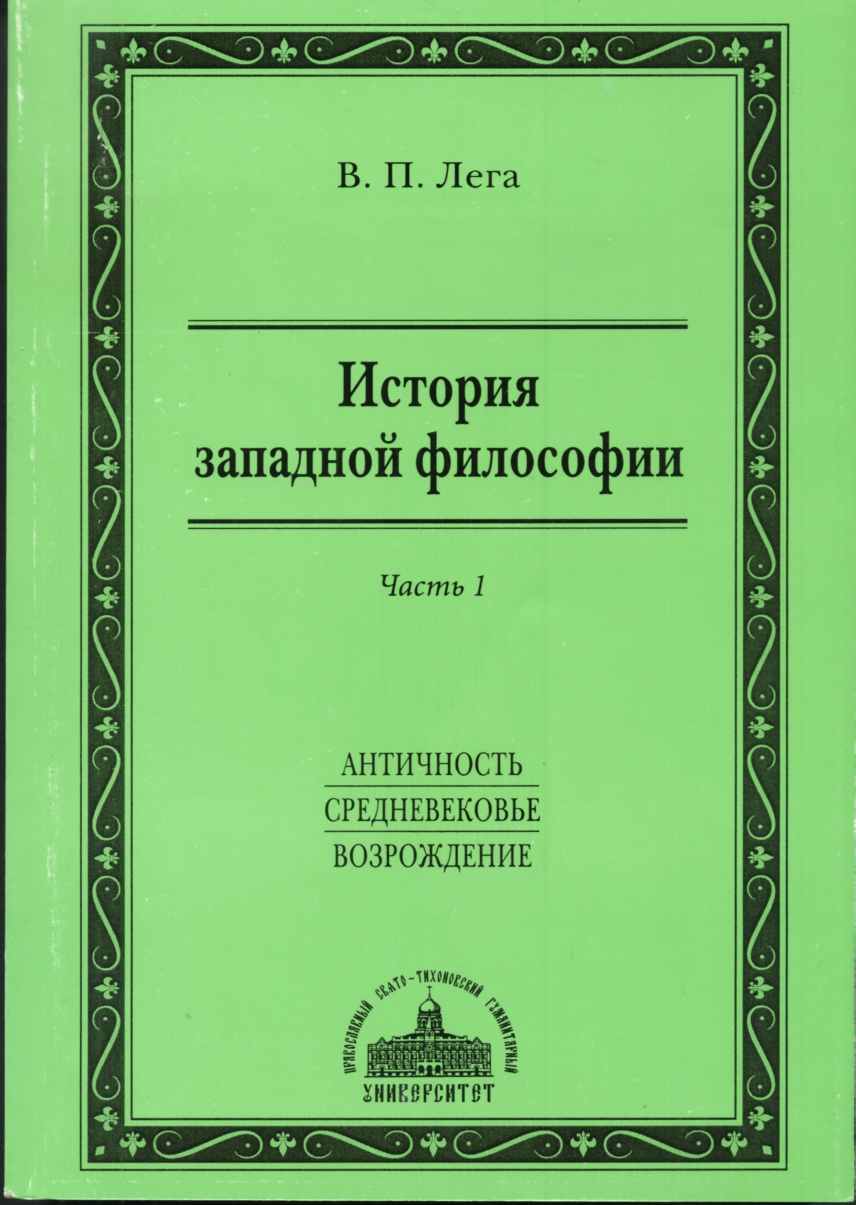противоречием, поскольку мораль – это долг. Мораль основана на «принуждении»
109, на «интеллектуальном принуждении». Она намеренно борется со «склонностью» как источником удовольствия. Практический разум должен обуздать «безудержную навязчивость склонностей»
110. Это «моральное принуждение» болезненно: «Следовательно, мы можем a priori усмотреть, что моральный закон, как определяющее основание воли ввиду того, что оно наносит ущерб всем нашим склонностям, должен породить чувство, которое может быть названо страданием»
111. Мораль – это страсть. Мораль – это страдание. Путь к моральному совершенству, а именно к «святости», – это via doloris.
Акцент, который Кант делает на разуме, несомненно, продукт Просвещения. Однако враждебность к чувствам и чувственному удовольствию, которой пропитана его моральная теория – да и вообще все его мышление, – напротив, не характерна для Просвещения. К характерным чертам Просвещения относится как раз реабилитация чувственности. Просвещение – не только Кант, но и Ламетри, в частности его радикальное утверждение чувственности и удовольствия. Согласно Ламетри, ощущение бытия есть первичное ощущение удовольствия и счастья. Кантовская враждебность к чувственности – не подлинная черта Просвещения, а пережиток христианской морали. Упомянутая «безудержная навязчивость склонностей» в первую очередь совершенно противоположна «естественности». Только резкое отделение разума от чувственности создает принуждение, ранит, из-за него склонности превращаются в что-то «безудержное» и «навязчивое».
Согласно Канту, «высшее благо» «есть a priori необходимый объект нашей воли»112. «Совершенное воление разумного существа»113 может удовлетворить лишь «высшее благо». Только добродетель и счастье вместе образуют «высшее благо, все благо в целом». Но при этом они – два «совершенно различных элемента»114, которые борются друг с другом. Моральное как таковое не приносит счастья. Оно также не «учит нас, как достичь счастья», поскольку счастье принадлежит порядку склонностей и чувственности. Склонность как источник счастья не ведет к моральному действию, «так как человеческая природа согласуется с морально добрым не сама по себе, а через принудительное воздействие, которое разум оказывает на чувственность»115. Поэтому насилие и боль необходимы для морального совершенствования.
Глубокая пропасть отделяет мораль от счастья. И все-таки Кант не хочет отрекаться от счастья в пользу морали. Кант косит глазами в сторону морали. В таких случаях он взывает к Богу. Бог должен заботиться о том, чтобы счастье было разделено «в точной соразмерности с нравственностью»116. За приносимую «жертву», за перенесенную боль homo doloris находит «щедрое вознаграждение»117. Кант превращает боль в капитал, который возвращается счастьем. Страсть не уменьшает счастье. Наоборот, страсть увеличивает счастье. Она оказывается формулой интенсификации. Она обещает блаженство под залог счастья.
В 1751 году появляется немецкий перевод книги Ламетри под названием «Рассуждение о счастье», которую он написал в 1748 году во время своей прусской ссылки. Любопытным образом подзаголовок гласит: «Высшее благо или философские рассуждения г-на де Ламетри о счастье». Должно быть, Кант хорошо знал это сочинение. «Высшее благо» у Ламетри при этом понимается совершенно иначе, чем у Канта. Согласно Ламетри, между счастьем и добродетелью нет никакого противоречия, из-за которого нужно было бы непременно ссылаться на Бога. Добродетель не является абсолютной величиной, которая располагается по ту сторону всякого счастья и лишь при участии Бога могла бы с ним соединиться. Для Ламетри гораздо вернее следующее: мораль тоже может дать счастье. Моральное удовлетворение – не оксюморон. Счастлива такая жизнь, которая и добродетельным оставляет возможность быть счастливыми. Согласно Ламетри, именно в этом состоит искусство жизни: «Чем большим количеством добродетелей кто-нибудь обладает, тем счастливее он становится <…>. Кто же, напротив, совсем не упражняется в добродетели, а соответственно, и не находит в таком упражнении ничего приятного, тот не способен на этот вид счастья»118. Ламетри часто повторяет, что счастье и мораль друг другу не противоречат: «Занятый исключительно тем, чтобы хорошо совершить узкий круг жизни, чувствуешь себя тем более счастливым, что живешь не только для себя, но и <…> для человечества, служением которому гордишься. Принося счастье обществу, вместе с тем создаешь и свое собственное счастье»119.
Счастье не является состоянием изолированного индивида, «когда все в его существовании происходит согласно его воле и желанию»120. Это кантовское представление о счастье инфантильно. Счастье не значит попросту, что все сразу же происходит так, как мне хочется. Счастье имеет гораздо более сложную опосредованную структуру, которая превосходит непосредственность некоего тотчас исполняющегося желания. Счастье, кроме того, не является чувственным феноменом. Напротив, оно является результатом социального, интерсубъективного посредничества. Как написано в моральном еженедельнике «Счастливые», «поскольку мы делим мир с нашими ближними и находимся с ними в самых тесных отношениях, для нашего счастья мы нуждаемся в других и должны в ответ и их делать счастливыми, протягивая руку помощи, работая над собой. Именно на этом мы построили общество и в общественных предписаниях наказали жить друг с другом счастливо»121.
Многие моральные еженедельники XVIII века обнаруживают иное, существенно более гуманное лицо Просвещения. В основном не наблюдается какой-то особенной враждебности по отношению к чувствам или к удовольствию122. Наука и искусство тоже не должны исключать развлечения. «Юноше» предлагается такой слоган: «Наша наука – радость, / А наше искусство – все приятное»123. И мораль вступает в союз с развлечением. Например, в [журнале] «Патриот» (1724–1726) уже в первом номере читаем: «Путь к добродетели не столь труден и тернист, как многие себе представляют. Поэтому я проведу своих читателей по этому приятному и совсем не мрачному пути, и даже больше: я постараюсь, чтобы они на этом пути снискали уважение, богатство и прожили хорошую жизнь»124. Путь к добродетели, как видим, не via doloris. Мораль не равна боли и страсти. Друзьям жизни она не причинит ущерба. Моральный порядок как раз сулит длительную удовлетворенность. Даже самолюбие не противоречит морали. В журнале «Гражданин» находим: «Любовь к самому себе научит его быть верным и послушным подданным, честным и любящим гражданином, справедливым и честным человеком, искренним и отзывчивым другом, приятным и вежливым человеком, словом, он должен стать полезной ветвью на дереве общества; при условии, что он сам не захочет лишить себя покоя и счастья или даже оказаться отделенным как непригодный член от дающего ему жизнь тела»125.
Задача, решаемая моральными еженедельниками, состоит помимо прочего в том, чтобы морально развлечь читателя. Потому они и написаны в легкой, игривой, шутливой манере, которая должна нравиться. Тут инсценировано своего рода литературно-моральное рококо. Развлекательна не только их нарративная форма, которая подслащает само по себе горькое моральное содержание. Сам моральный порядок должен излучать удовольствие и удовлетворение. Представление о том, что моральное ядро горькое на вкус и что его следует подсластить, все-таки не совсем оправданно с точки зрения той сложной и опосредованной структуры, которая присуща морали. Мораль может, даже должна быть сладка сама по себе. По