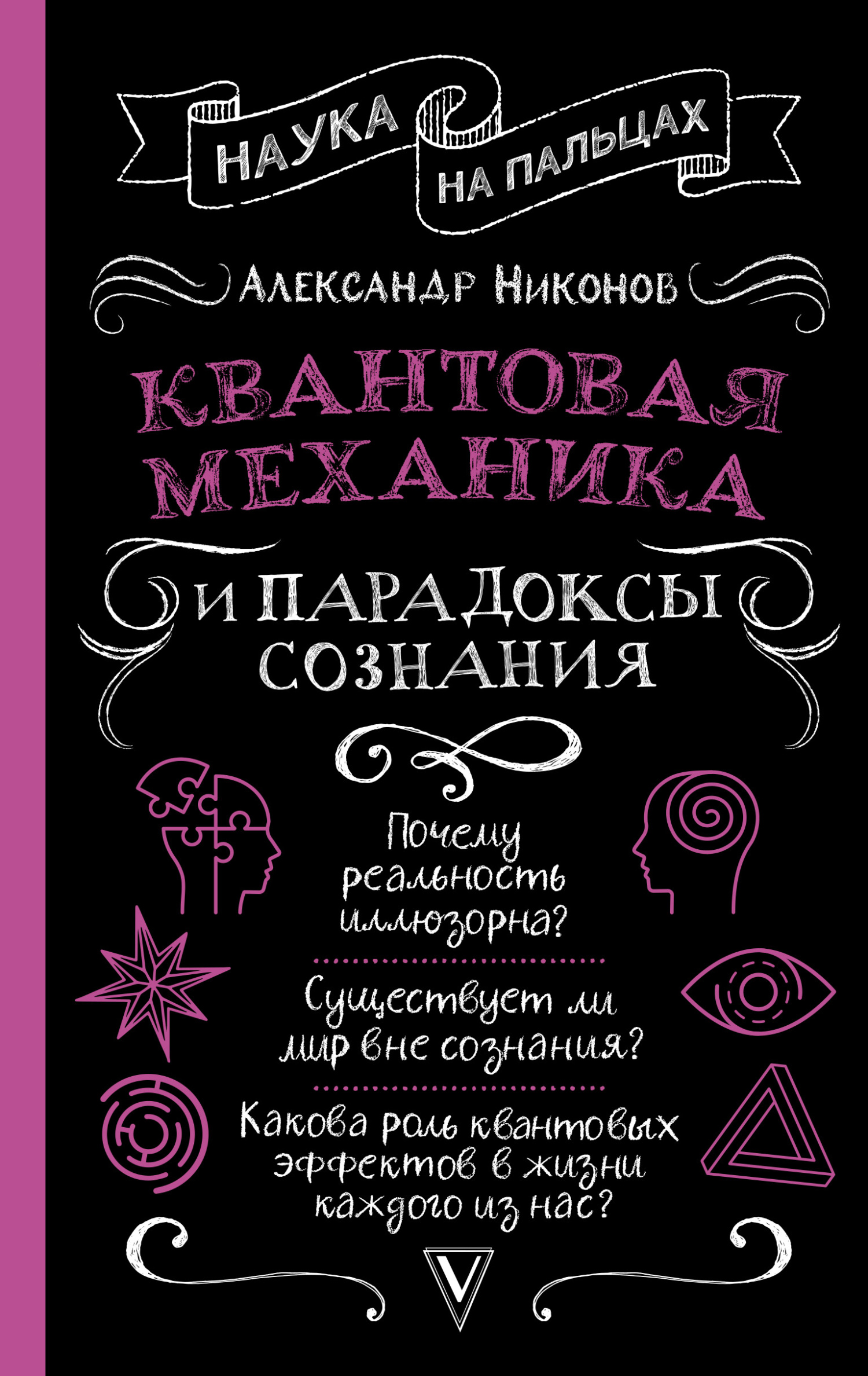Jérémie, но большинство бариста из «Старбакса» в моей родной Оттаве с этим категорически не согласны. Когда я протягиваю руку за свежесваренным дольче латте с корицей за двадцать баксов (писательство – ремесло затратное, так что, пожалуйста, не скачивайте пиратскую версию этой книги), на стаканчике черным маркером выведено, как правило, банальное Jeremy. Знаю-знаю, мне приходится нелегко.
Иногда мое имя пишут правильно, но какой вариант мне выпадет в конкретный день – дело случайное и непредсказуемое. Или скорее таким кажется.
На самом деле, едва я слышу акцент бариста, я сразу понимаю, родной ли для него французский язык. Если да, я рассчитываю увидеть на стаканчике французское написание своего имени. Так что акцент бариста – единственная переменная, которая позволяет мне предсказать то, что иначе предсказать бы не получилось.
Однако уловить акцент мне удается не всегда. Иногда бариста далеко и его плохо слышно, а подбираться ближе как-то неловко. В таких случаях «акцентная переменная» от меня скрыта – и я лишаюсь единственной возможности предсказать написание имени на стаканчике. Оно снова кажется мне случайным, но не потому, что действительно случайно, а потому, что я не вижу переменную, которая за него отвечает.
Эйнштейн считал, что квантовые частицы – как мой стакан: может казаться, что они ведут себя случайным образом, но эта случайность – иллюзия. В реальности поведение квантовых частиц полностью детерминировано, однако им управляют скрытые переменные, которых мы не можем увидеть, поскольку они для нас недосягаемы.
Поэтому, согласно картине Эйнштейна, электроны не вращаются одновременно и по часовой стрелке, и против, чтобы коллапсировать в одно случайное состояние, только когда мы их пронаблюдаем. Нет, они вращаются в одном направлении – но определяют это направление скрытые от нас переменные, одна или несколько.
«Скрытые переменные» коренным образом изменили бы для физики исход игры. У нас появился бы совершенно новый слой реальности, который мы могли бы снять – и тогда перед нами снова оказалась бы идеальная предсказуемость. Вселенная теории скрытых переменных была бы на сто процентов детерминистической, совсем как механистическая вселенная Ньютона. Это придало бы физике могущества – мы смогли бы делать предсказания без неопределенностей, которые, как мы когда-то считали, внутренне присущи квантовой механике. Только представьте, какие щедрые гранты на исследования можно было бы получить!
Но Эйнштейну этого было мало. Он хотел иметь не просто предсказуемую теорию скрытых переменных – ему нужна была теория, которая еще и не допускает сверхсветовых эффектов.
Тогда он еще не мог знать, что через много лет после его смерти знаменитый ирландский физик Джон Белл докажет, что виш-лист Эйнштейна был за гранью возможного. По причинам, которые включают в себя формулы с греческими буквами, выяснилось, что теорию скрытых переменных нельзя заставить работать, не задействовав сверхсветовые грязные делишки, вызывавшие у Эйнштейна такое отвращение. Теория бедного старого Эйнштейна была нежизнеспособна с самого начала.
Но почему вообще Эйнштейн настаивал на том, что все эти сверхсветовые выкрутасы надо запретить? Не хочу показаться заезженной пластинкой, но ответ прежний – эстетические предпочтения. Нет никаких фундаментальных причин, по которым в квантовой теории не могут участвовать определенные сверхсветовые взаимодействия, как они участвуют в интерпретации Бора. Просто Эйнштейн считал, что это мерзость [10].
Так что даже Альберт Эйнштейн, нобелевский лауреат, создатель теории относительности и первооткрыватель фотона, умудрился пойти на поводу у своих эстетических прихотей и потратил последние годы своей карьеры на продвижение теории, обреченной на провал. Перефразируя цитату из «Звездного пути», заметим, что «эстетика в пустом мешке идет по цене мешка».
К счастью, другие физики оказались не так придирчивы, как Эйнштейн. Один из них, в частности, готов был мириться со сверхсветовыми фокусами и продвигать идею скрытых переменных.
Была только одна проблема – он был чертов коммуняка.
Красная физика
В наши дни среди очень умных людей пошла мода на то, чтобы поправлять бухгалтерские очки в стиле пятидесятых и цедить что-нибудь глубокомысленное вроде «Знаете, в западной науке столько слепых пятен, потому что она порождение западного общества». (Правда, они не скажут просто «общество» – у них сплошная «культурная среда» и прочие умные выражения, которые они выговаривают так, чтобы сразу становилось ясно: они очень, очень умны.)
Вообще-то они правы. И в этом на собственном горьком опыте убедился Дэвид Бом, один из самых авторитетных физиков ХХ века.
Бом нашел способ создать теорию скрытых переменных, которая в целом даже работала, но все равно так и не прижилась. Отчасти потому, что копенгагенская свита Бора держала квантовую механику до того цепко, что большинство людей даже не чувствовало потребности в новых подходах к квантовому миру. С точки зрения копенгагенского кружка Бор все понял правильно – и дело в шляпе.
Но еще теория Бома ушла в песок из-за политики.
Бом тогда был коммунистом, а на дворе, к несчастью для него, были пятидесятые, эпоха антикоммунистической паранойи среди политиков и государственных деятелей, когда всякого, кого подозревали в симпатиях к коммунистам или социалистам, обвиняли в госизмене и подвергали остракизму.
Сходил на митинг коммунистической партии? Коммуняка. Твой любимый цвет – красный? Коммуняка. Предложил соседям по общежитию поровну распределить обязанности по готовке? Коммуняка. В пятидесятые все было просто. К несчастью для Бома, у него в списке признаков коммуняк стояло много галочек: он был активистом Коммунистического союза молодежи США и нескольких других коммунистических и профсоюзных организаций. Поэтому, как и многие другие, он стал мишенью для борцов с «красной угрозой».
В 1943 году он не прошел проверку благонадежности для работы над Манхэттенским проектом, сверхсекретной программой США по разработке ядерных вооружений, в 1950-м был арестован за отказ отвечать на вопросы комиссии Конгресса, которая расследовала дела коммунистов, а к тому времени, как обвинение было снято (в 1951-м), лишился профессорской должности в Принстоне и решил покинуть страну и перебраться в Бразилию. Едва он туда прибыл, как американский консул конфисковал у него паспорт и заявил, что Бом получит его, только когда решит вернуться в Штаты. Все это поставило крест на его научной карьере, планах сотрудничества с европейскими коллегами и возможности продвигать свою интерпретацию квантовой механики.
Самое печальное, что Бом честно хотел лучше объяснить квантовую механику и действительно был одним из замечательнейших научных умов своего времени. Он даже работал с самим Эйнштейном, который пытался помочь ему получить должность в исследовательском институте в Англии после скандальной истории с расследованием в Конгрессе. Кто знает, какой вклад сделал бы Бом в квантовую механику, если бы остался в США и имел возможность лично общаться со многими ведущими физиками своей эпохи.
Опыт Бома учит нас, в частности, что государственная политика может играть в формировании научного консенсуса не менее важную роль, чем политика