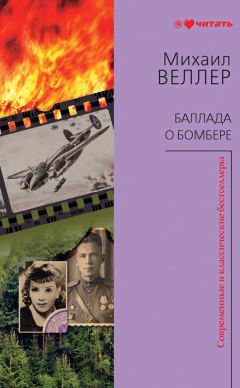…Уже наступил ноябрь, серенький, с мелким снежком, который завивался поземкой под ветром, когда в сумерки капитан в новой необмятой шинели, в фуражке с летными крылышками, шагнул в блиндаж командира дальнебомбардировочного полка и доложился:
— Товарищ подполковник! Капитан Гривцов для дальнейшего прохождения службы прибыл в ваше распоряжение!
Командир полка вытаращил слегка глаза и с радостным недоумением переспросил:
— Гривцо-ов?! Андрей!..
— Так точно. Я.
— Откуда?!
— Долго рассказывать, товарищ подполковник. Вот, — и Гривцов протянул аттестат, командировку, сопроводительную записку.
— Садись… Ну, прибыл! Стариков-то у нас осталось — раз-два и обчелся. Садись, что стоишь. Петр-ренко!! Петренко, сообрази-ка на стол быстренько.
Они не успели выпить по первой, как весть о том, что вернулся сбитый в мае Гривцов, с быстротой молнии распространилась по полку. Первым примчался техник Никодимов:
— Товарищ капитан! Товарищ капитан… — он неловко откозырял и обнял Гривцова. — А все… Вы один вернулись?
— Один, брат, — сказал Гривцов и вздохнул. — Помянем их… память…
Встав, они в молчании помянули их стопкой пахнущей бензином армейской водки, командир полка, капитан, и бывший его техник, и не помянули многих — на войне всех не помянешь… И лишь вечером, укладываясь спать в отведенной ему землянке, лежа в темноте и повторяя про себя Катино имя, думал Гривцов обо всех тех, с кем столкнула его судьба там, в немецком тылу, и без кого — как знать? — не был бы он сейчас здесь.
Он никогда не узнал, как в ночном лесу отстреливался от немцев его штурман, шутник Жора Гринько, который так хотел — в нарушение приказа — чтоб Гривцов вернулся обратно на аэродром вместе с Катей. Как пересчитывал выстрелы, сберегая последний патрон во второй обойме для себя, но из темноты вылетела, метя прямо в горло ему, овчарка, и последняя пуля из Жориного пистолета досталась ей, а сам он получил очередь в живот от щуплого ефрейтора, ее проводника.
Он не узнал, что старуха Глазычиха, приютившая их с Катей, была пристрелена полицаями на пороге своей избы еще тогда, когда Катя бежала, задыхаясь и всхлипывая, по лесу, а сам он, без сознания, бился головой о дно телеги, которой правил с белой повязкой на рукаве и пулеметом «машиненгевер» между колен, — не утерявший человеческого облика полицай Крыщук.
Не узнал он и того, что сам Крыщук в конце концов сбежал к партизанам, на коленях каялся в грехах и просил смерти от руки своих, и погиб, смывая грехи кровью, громя с партизанами проклятую полицейскую управу.
Что недоверчивый Яшка был взят во время налета на немецкий гарнизон в плен, согласился пойти служить в полицию и сгинул вместе с отступавшими немцами в сорок четвертом году.
Что насмешливый бородач, командир партизанского отряда и бывший доцент-историк, прикрывая с пулеметом от карателей отход своего отряда, был взят в плен и во время допросов полицаи хохотали от его злых и безжалостных шуток — и, вспоминая, хохотали и после того, как он был повешен.
А хозяйственный командир другого отряда, завхоз Мацилевич, в сорок четвертом стал офицером и кончил войну заместителем по тылу командира артиллерийского полка.
Ничего этого Гривцов не знал и знать не мог. И думал он об этом недолго. Как, впрочем, недолго думали о нем и его экипаже и те, с кем летал он в одном полку. У войны свои законы, и у памяти на войне тоже свои законы.
И вот по этим законам памяти на войне, гораздо больше, чем предстоящие боевые вылеты, необозримое количество дней и недель войны впереди, зенитный огонь и истребители, волновало сейчас капитана Гривцова то, где Катя. Потому что больше у него не было родных людей, а за родных волнуемся мы больше, чем за себя.
Он ждал почему-то, что Катя напишет. Ведь ему посчастливилось попасть в свой полк, и номер полевой почты был прежним. И в этом счастливом ожидании он и уснул, и во сне война кончилась, на аэродроме приземлился серебряный сверкающий самолет, и из него вышла счастливая Катя в белом платье…
А наутро в дверь сунулся адъютант полка и, хлестнув себя хлыстиком по голенищу надраенного сапога, произнес:
— С планшетами — к командиру.
Гривцов пошел получать боевое задание.
— Так, — сказал командир полка, поставив задачу. — Гривцов, полетишь на «семерке». Пойдешь ведущим звена. Если прошлый вылет считать тебе за полвылета — в один конец, в другой ты пешком шел (летчики добродушно заржали), то этот будет сотым с половиной. Желаю успеха и лично тебе, капитан. Провожаю вас в воздух и сажусь писать на тебя представление на Героя.
Машины ушли в воздух, и к ним пристроились сверху истребители сопровождения, и сжимая штурвал невольно думал Гривцов о том, майском, вылете, и все чудилось ему, что в бомбоотсеке — не стальные тела стокилограммовых фугасок, а хрупкая девушка в комбинезоне, и на спине у нее парашют, на груди автомат, на поясе всякая дребедень, а через несколько часов они обязательно вернутся на аэродром.
…После пятого вылета он перестал ждать письма. Он понимал, что если б было письмо — он бы уже получил его. Но надежда — всегда живет надежда…
И иногда сбывается. Не всегда так, как мы себе представляем.
— Гривцов — к командиру, — в очередной раз произнес адъютант с хлыстиком и в надраенных сапогах — вестник авиационного бога войны. Гривцов отправился к командиру, соображая, что мог значить этот вызов. Пришла звезда Героя? Так награды вручают на построении, при всех. Приехала Катя?! Это невозможно. Переводят в другую часть? Не хотелось бы… вдруг Катя разыщет его.
Командир полка был отменно зол.
— А ты, оказывается, любитель курортов с удовольствиями, капитан, — язвительно сказал он.
— Виноват, — удивился Гривцов.
— Виноватых бьют! — взъярился командир. — Не будь отправлено на тебя представление на Героя — вломил бы я тебе так, что своих не узнал!
— В чем дело, товарищ подполковник?
— Он не знает, в чем дело… Ну, стервец!..
Зазуммерил телефон.
— Да! Так точно, у меня, товарищ полковник! Да, вломил ему уже по первое число. Есть! Даю.
Он передал ничего не понимающему Гривцову трубку. Пожав плечами, Гривцов в нее отрапортовал:
— Капитан Гривцов слушает.
Раздраженный начальственный баритон велел:
— Слушай хорошо, капитан. Очень хорошо, потому что это дело пахнет для тебя снижением, судом и всякими прочими неприятностями.
— Извольте представиться! — вспылил Гривцов. — Вины за собой не знаю! И с интересом выслушаю, в чем дело.
Баритон задохнулся от возмущения:
— Ты смотри, какой ершистый! Он «с интересом»… он «выслушает»!.. Полковник Иваницкий из разведки фронта с тобой говорит! Довольно с тебя такого представления? Вина твоя — ты лишил нас человека! В чем дело, говоришь, не знаешь? Интересно! Он не знает. Знаешь прекрасно! Ты знаешь Флерову?
Гривцов вздрогнул, и руки у него затряслись:
— Так точно! Знаю! Что товарищ полко…
— С ней то, что она не может быть отправлена на задание!
— Что с ней? Где она? — забыв субординацию, заорал Гривцов.
Неожиданно полковник спросил:
— Ты женат, капитан?
— Женат! — закричал Гривцов. Командир полка при этих словах удивленно поднял брови и с сомнением посмотрел в побледневшее от волнения лицо Гривцова.
— А что ж ты, негодяй, портишь девчонке жизнь и делаешь ей на фронте ребенка! — загрохотал баритон. — Много вас тут таких ухарей, а ей еще жизнь жить! Война идет, она такой же солдат, как ты! Что ж ты ей, паразит, наобещал, а?
— Да я на ней женат!! — заорал Гривцов. — На ней женат!
Баритон удивленно осекся.
— Ты, капитан, не морочь мне голову. Она не замужем, уж за это я ручаюсь — сегодня личное дело листал. Она, понимаешь, уверена, что ты геройски погиб, а ты жив — и ни слуху ни духу.
— Да где она, товарищ полковник? — взвыл Гривцов, изнемогая от нетерпения.
— А где она, по-твоему, может быть в том положении, которое ты ей устроил? — с ледяной вежливостью поинтересовался полковник. — Отправлена в тыл. Рожать.
— Я ее люблю, — неожиданно признался Гривцов полковнику из разведки фронта, и даже сам удивился неуместности признания.
— Я за твою любовь выговор получил, — ответствовал полковник. — Так ты действительно неженат?
— Действительно.
— От этого, правда, не легче. Ты знаешь, как наказываются на фронте подобные штучки?
— Знаю… А что теперь делать?
— Ну, ты не девочка, чтоб мне такие вопросы задавать. Получишь по шее от своего начальства, на том дело и кончится. Ох, уж эти мне бравые летчики… Твое счастье, что я добр. Так, говоришь, жениться на ней хочешь?
— Хочу.
— Кончится война — женишься… А вот где я, черт бы тебя драл, радисток на вас всех наберусь, таких любящих и неженатых?.. Ну, ладно. Скажи своему командиру, что я приказываю объявить тебе пять суток губы. Бывай здоров.