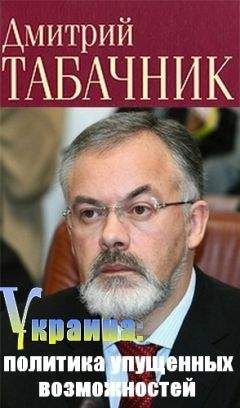— Вообще-то я без них равновесие теряю… — говорил он нелегко, надо же было что-то сказать, — придется на Земле сначала очень большую обувь носить…
— Не представляю, — сказал Кондор, — один на всем белом свете… Ты реализовал образ? — он ткнул пальцем в лоб Руматы. — Ладно, кто мы все, я уже слышал…
— Не дался, остался, забыт во вселенной. — Румата жадно рванул кусок мяса. — Тра-ля-ля. — Он соскочил с телеги, подошел к большой, не лишенной изящества медной клетке, где на досках и мешковине, запрокинув голову, с грязной нечесаной бородой громко храпел Кабани. И храп его был похож на хрюканье.
— Свет от корабля увидят даже в Соане… — сказал Кондор и поцокал на храпящего. В ответ на цоканье Кабани взвыл громче. — Монахи сюда придут, это не Серые… И пф-ф-ф-ф, — он изобразил огонь, — его вместе с ящиком.
— А на Земле он сойдет с ума, и вы поселите его в сумасшедшем доме имени неприбывшего меня, — Румата захохотал.
— С тобой спорь, не спорь… — сказал Кондор. — Кем ты здесь станешь один, королишкой устроишься или, скорее, твой раб, что там, в лесу, прячется, перережет тебе глотку из-за двух монет… Я-то любил тебя, это ты меня — нет…
Доны сзади зашевелились. Кондор скривился, стал оглядываться, бросил в телегу огромный свой меч, золоченую сумку и пошел, проваливаясь в болотинах, отмахивая назад ладонью, так иногда уходят от могил.
— От блох, — сказал Пашка, — сам придумал… Там, внутри… — Он положил в телегу здоровый сапог. — И еще там моя работа… О верхах и не думай…
Из сапога выползла не то большая дудка, не то небольшой, богато украшенный саксофон.
Пашка поднял свои тяжелые веки, свистнул, пугая ночных птиц, и побежал к кострам.
— Эй! — крикнул Румата, так что и Кондор, и Пашка остановились. — Я думаю, на Земле вы будете оба ходить в больших ботинках. Все равно, пока я болел, я стал жителем этой Земли. Или как ее. А вы — тени из сказок. Ты — тощая тень, ты толстая. Что теперь сделаешь? Ну, а я попробую отправить Орден на юг, в их печальную болотистую страну. Шансы у меня есть. И убивать иногда исключительно приятно. И проваливайте быстрее, а то я еще заплачу.
Оба опять повернулись и пошли. Кондор провалился в большую грязную яму и шел, оббивая сапог от этой грязи. Без шпор они шли действительно неумело. И Пашка взял палку.
Румата чмокнул.
Из темноты вышел тяжелый жеребец с сумками и мешками на боку. Румата шлепнул его ладонью с болтающейся боевой рукавицей. Конь дернулся. Из-под снега выскочила толстая, в сосульках, прицепленная Руматой веревка, конь потянул и пошел, исчезая в темноте, за ним дернулась и потянулась на этой веревке клетка с Кабани. Клетка была на полозьях и не проваливалась. Румата сгреб все с телеги, забросил в клетку, прицепил мечи и встал на полоз.
На повороте лесной дороги сидел Муга, босой, в длинной своей кольчуге со старинным длиннющим мечом.
— Не смотри назад, — сказал Румата, — ослепнешь. Да и обделаешься. Зачем мне болтливый и вонючий раб?
Еще один поворот. Румата не выдержал и обернулся.
Огромное брюквенное поле оплавлялось, избавляясь от снега. В странном свете носились лесные птицы, отчаянно крича и не умея ускользнуть в темноту.
Румата достал из клетки гибрид дудки с саксофоном, нажал на клавиши, дунул в мундштук, и инструмент ответил густым, неожиданно мощным звуком…
— Ну, что ж, вперед, мое войско…
Фыркнула лошадь, хрустнул валежник, и голос Муги сказал:
— Хозяин, Муга, между прочим, прекрасно знает, откуда этот свет… И Муга не глуп и не болтун. Просто один табачник, очень, очень умный человек, как-то рассказал Муге…
Смешок Руматы, всхрапнул Кабани.
Задул сильный ветер. Просыпался снег. Возникла надпись:
«КОНЕЦ»
Послесловие
Алексей ГЕРМАН: «Рукописи горят еще как… Ого-го…»
Вот тебе история про хромую ворону от сибарита Германа.
Принято Германа так представлять: сибарит, барин, лежит на диване, чешет пузо, в носу ковыряет — вместо того, чтобы кино снимать. Неопрятный толстяк и очень ленивый. Ну хорошо, те, кто меня на съемках видел, — им, конечно, про сибарита и ленивца смешно. Но если бы кто-нибудь мог знать, что происходит и вне съемочной площадки… Если бы кто-нибудь внутрь заглянул… Но внутрь им, слава богу, не забраться.
Из всех сценаристов, с которыми я пытался работать, самым талантливым был Юра Клепиков. Почему я больше к нему не обращался? Мне нужно было то, что мне было нужно. А не то, что было нужно ему. Он слишком самостоятельный, отдельный. Он создает свои собственные замечательные произведения, и мне, как режиссеру, остается только их портить. Я вообще не очень себе представляю, как можно взять чужой сценарий и переносить его на экран, кардинально не переделывая. Все же очень зависит от множества обстоятельств: от места съемки, от актеров, которые вот этого, скажем, не могут сделать, зато могут другое, что тебе и в голову не приходило…
Хороший сценарий должен быть хорошей литературой. Если это плохая литература, то и фильм получится плохим. Не спасут ни артисты, ни оператор, ни художник. Спасти может только режиссер, если он этот плохой сценарий выбросит в корзину и напишет другой. Эта нынешняя американская манера записи, когда сценарий представляет собой покадровое описание с диалогами, — мне не нравится. Эта экономия бумаги, сил и времени автора очень даже видна на экране. Ведь в произведении одна из самых важных вещей — это интонация. Настроение. При жесткой записи как это сохранить? Поэтому мы видим то, что мы видим: безвоздушное пространство, в котором смыслы не множатся, не роятся, не ссорятся, не сталкиваются, не высекают искру… Допустим, замечательная картина Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». Ну как ее можно написать раскадровочным образом? Музыку — а кино это музыка — можно описать только хорошей литературой. А дальше попытаться эту хорошую литературу перекинуть на пленку… Я помню, как Владимир Яковлевич Венгеров, человек, которого я очень любил, решил меня поучить, как можно и как нельзя писать для кино: «Вот вы пишете, что по перрону ходила хромая ворона, — что это дает?» Я говорю: «Я не могу сказать вам, что это дает. Но, если по перрону ходила ворона, это одно, а если хромая ворона — это сразу дает нужное мне настроение». Тарковский звук падающего бревна неделю писал, и вроде слушаешь, ничего особенного, бревно падает и падает. Но если много раз смотреть и много раз слушать (я это бессчетно делал), постепенно понимаешь, что из этих мелочей все волшебство и состоит. А когда сейчас сериал снимается за два-три дня, за неделю и так далее — какая уж хромая ворона! И ворону-то не поймать… Максимум, на что можно рассчитывать, это что по перрону будут ходить куры. Причем бройлерные.
Как мы начали писать сценарии? Понимаешь, я, как ни странно, всю жизнь боялся бедности, и я всегда ждал неприятностей, которые не заставляли себя ждать.
Мы со Светланой все сценарии написали вдвоем. Я один бы не взялся. Мы как-то хорошо чувствуем вещь, когда вместе. Я по спине Светланы чувствую — вот, не туда все поехало. Начинаю ее ненавидеть, разгораются скандалы… Два наших сценария побывали в печке… Но потом возвращаюсь, и все переделываем.
После «Проверки на дорогах» стало в общем ясно, что режиссурой мне в лучшем случае дадут заниматься лишь время от времени. Ну что, казалось бы, опасного было в «Двадцати днях без войны»! И вот, посмотрев этот безобидный с точки зрения идеологии материал, тогдашний министр Филипп Тимофеевич Ермаш поежился, помолчал и глухо промолвил: «Ну что, товарищи, обсудим масштаб посетившей нас катастрофы». После этой истории мы со Светланой уже никогда не сомневались, что как бы мы ни работали, все кончится плохо. Общество было душное и не наше. Мы были чужими на празднике жизни, и тогда я придумал, что мы будем писать сценарии сами. Во-первых, хотя бы со сценаристом не придется воевать. Во-вторых, это все-таки кусок хлеба. Отнюдь не достаточная, но все же необходимая защита от этого государства. И вот во всем, во всем перекрывали кислород, а сценарии покупали и фильмы по ним другим режиссерам ставить разрешали. Там не было моей фамилии, но я почти убежден, что про мое участие им все было известно. И для них это была такая продуманная стратегия. Давать мне средства к существованию и не пускать к камере.
Правда, как и положено, мы к каждому сценарию относились как к последнему. То есть предельно серьезно. И всякий раз думали, что пишем его для меня, что я буду его ставить сам. Понимаешь, мы хотели невозможного: делать хорошие вещи, которые бы не клали под сукно или на полку. Мы старались по-своему. Честно пытались найти выход из положения. Иногда получалось смешно. Вот, например, история про сценарий по Стивенсону. Меня вызвала зам. главного редактора Госкино Барабаш: «Алексей, ну зачем вы все время лезете на рожон? Оставьте вы в покое советскую историю. Возьмите какую-нибудь остросюжетную вещь из классики… Что-нибудь такое приключенческое… „Черную стрелу“, например…» Ну, «Черную стрелу», так «Черную стрелу»… Мы достали с полки Стивенсона, перечитали его и написали «Поучительную историю Дика Шелтона, баронета, так и не ставшего рыцарем». Поскольку сценарий у нас получился не очень приключенческий, мы попросили Константина Симонова поговорить в Госкино, чтоб разрешили запуск. Симонов пошел, его долго не было, они там обсуждали важные государственные проблемы типа вводить войска на Кубу или не вводить войска на Кубу. Через час вышел: «Все, договорился, уже вставили в план, будешь ставить свой „Таинственный остров“». Я зарыдал: «Какой „Таинственный остров“? Это Жюль Верн, а у нас Стивенсон. „Черная стрела“ — это история Жанны Д'Арк и белого голубя, вылетевшего из костра, в котором ее жгли. А там — мартышка, негр и капитан Немо». Симонов отмахнулся: «Ну поставьте пока „Таинственный остров“, какая разница! Не могу же я опять идти к министру!». Сценарий, конечно, не приняли. Так бесславно окончился наш эксперимент. Больше «не лезть на рожон» я не пытался.