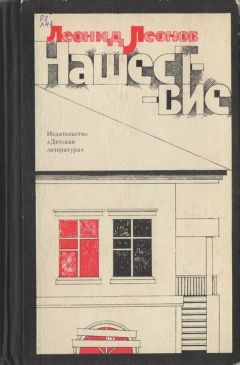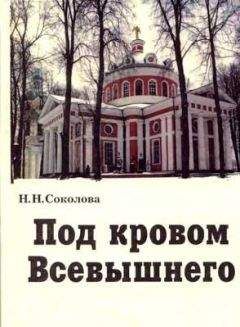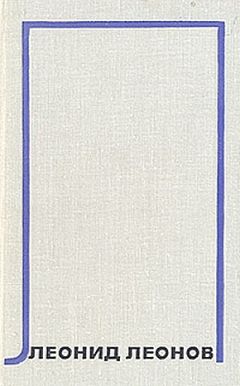Без движения, постаревший и маленький, Фаюнин глядит ушедшему вслед. Кукушка кричит время. Вопль вырывается у Фаюнина. В прыжок он оказывается у телефона.
Фаюнин. Комендатуру! Разъединить! …здесь Фаюнин. (Крутя ручку телефона.) Врешь, мой ножик вострей твоего, врешь… (В трубку.) Цвай. Это Шпурре? Фаюнин здесь. Давай, миленький, людишек быстренько сюда… я тебе подарочек припас… то-то! (Бросив трубку.) За Оленькой-то вернешься, сынок. Ой, ночь длинна, ой, не торопись с ответом!
Приспособленное под временную тюрьму подвальное складское помещение. Два полукруглых окна под высоким сводчатым потолком: одно забито вглухую, с дощатыми склизами для спуска товарных тюков, другое — веселое, в розовой оторочке недавней метели. За ним редкий для декабря, с восходящими дымами погожий полдень. Словно задуваемые ветерком, блики солнца мерцают на выбеленной кирпичной стене со следами надписей — «Лукоянов, 1907» и «Не кури а кто заку 1 ру». На нарах, сооруженных из ящичной тары, разместились люди, которым назначено провести здесь остаток дня и жизни. Это старик в кожухе и дремлющий у него в коленях мальчик, да еще рябой и громадный Егоров, вышагивает взад-вперед вдоль стены, словно ищет выхода из этой братской ямы. Ольга в меховой жакетке убеждает в чем-то маленькую зябнущую женщину в непомерно широком мужском пальто, и сумасшедший в заерзанной шляпе пирожком переезжает из угла в угол на своей рогожке по делам служебной надобности. Другие без движения расположились на нарах. Правая, за аркой, половина подвала пропадает в потемках; там видна лишь железная решетчатая дверь да разбитый, на крюке, лабазный фонарь. Изредка доносится безнадежно далекая пулеметная очередь, и на этой прерывистой пунктирной линейке — то ветер в щели, то сумасшедший, то немецкий часовой у входа посменно тянут все те же две-три томительно длинные ноты. И, наконец, Татаров, привставший на ящик с поднятыми к окну руками, греет в зимнем солнышке свои изуродованные, невесть чем обинтованные пальцы.
Татаров Смотри, зима глухая, а щекочет теплом-то, сквозь тряпье пробивается… славная какая вещь, солнышко. Уж и мастеровиты были бедные пальчики мои, всё на свете могли. Думается, кабы протянуть их туда, поближе к нему, верст на двадцать, быстрей бы на поправку пошло.
Ольга. Не думай о них, Татаров, боли меньше… И что же, на допросе-то?
Татаров. Ну, тут кэ-эк пустит он меня по всей немецкой матушке: «Ты, — кричит и ножками топочет, — это ты, стерва, сообща с Колесниковым эшелон под откос пустил?» — «Извиняюсь, господин младший фюрер, — сквозь кровь ему смеюся, — оно и рад бы, да ведь враз за всем-то не угонишься. А Колесникова самому хоть издаля бы посмотреть, что за личность такая неуловимая». Тотчас отдается приказ привести его вроде для нашего персонального знакомства. А пока последний мой, мизинчик, раздевать принялися. (и потряс пальцами от боли.) Аккуратно, черти, работают.
Егоров. Нация — аккуратнее нету, окурка наземь не кинешь. Чуть что — сразу с тебя штраф семь копеек.
Татаров. И опять вроде мглой меня затянуло, а слышу сквозь одурь-то — ведут. По звуку конвой человек двенадцать, аж позвякивает. Вижу чьи-то ноги искоса, а взглянуть не смею: струсил за милого дружка. И вдруг как зайдется он в кашле, Колесников мой, ровно холстину рвут. Вскинул я очи…
Егоров (с надеждой). …не он?
Ольга. Не битый, не раненый… не заметил?
Татаров В том и дело, что цельный весь. А я тебе Колесникова в любом виде из тыщи выберу: с малых лет знавал… и мать его и деда.
Старик. Подставная фигура, не иначе. Могут и к нам сюда подсадить…
Егоров. …и запросто. Знаешь, сколько их нонче вокруг нас насовано?
Следом за ним все оборачиваются к замолкшему было сумасшедшему, который, тотчас перекинувшись в безопасную зону, возобновляет там свои жалостные упражнения.
Тоже человек… А какая-то несчастная песенкой его баюкала, у бога счастья для него просила (Татарову.) Чего вздыхаешь? Болит?
Татаров (мечтательно). В тихий бы, тихий вечерок, когда цветики на ночь засыпают, встренуться мне с палачиком моим у овражка один на один. И не надо мне ничего, ни твоего вострого ножичка…
Егоров. Интересное намерение. Еще чего тебе охота?.. заказывай, не стесняйся.
Татаров (виновато). Тоже щец бы покислее напоследок похлебать. А пуще — посмотреть бы, что там, на воле-то, делается.
Егоров. Вот это другое дело, тут мы тебя уважим, пожалуй… (И принимается составлять шаткую постройку из ящиков.) Выясним сейчас, чего на свете новенького.
Старик. Смотри, загремишь. Лучше паренька моего снарядим, он полегше.
Ольга. Внучек, что ли?
Старик. Еще роднее… внуком-то он мне и раньше был. (Тормоша мальчика.) Прокофий, а Прокофий…
Татаров. Не будил бы, больно спит-то сладко.
Старик. Ничего, привышный. (С какой-то пронизывающей лаской) Пускай свою долю несет… Прокофий, полно на коньках-то кататься, нос обморозил совсем. Очкнись!
Мальчик садится, спросонок протирая глаза.
А ну, полезай за новостями наверх. Мир просит.
Часовому не видно за выступом стены, как мальчик карабкается к окошку. Старик снизу поддерживает это шаткое сооружение.
Прокофий. Ух, снегу намело-о!
Егоров. Ты дело гляди. Столбы-то стоят?
Прокофий. Не видать. Тут какой-то шут ноги греет.
В окно видно: рядом с неподвижным ружейным прикладом беззвучно топчутся две иззябших немецких ноги в военных обмотках.
Пляши, пляши, подождем.
Он даже припевает: «У-уторвали от жилетки рукава, уторвали от жилетки рукава…» Движенья ног и припев, к общему удовольствию, совпадают.
Старик. Не озоруй, парень. Услышит.
Ноги наконец отошли.
Прокофий (удивленно). На качель похоже, дедушка.
Татаров (зло и негромко). Не туды смотришь. В небо выглянь: чье гудит-то… Наши аль ихние?
И тотчас же доносится отдаленная стрельба зениток.
Прокофий. Тоже спрашивает. Рази они по своим станут палить! (Старику.) А боле ничего, дедушка! Только воробьев массыя летает.
Старик. Слезай, еще застрелит.
Пирамиду успевают разобрать вполне своевременно: нарастающий шум и лязг вдалеке за дверью. Татаров бормочет сквозь зубы: «Правильно, в распоследнюю минуту завсегда ключи тюремные должны звенеть. Я в описаниях читал…» Безмолвное смятение, все взоры выжидательно устремлены на входное пятно в потемках.
Ольга. Спокойствие, товарищи, спокойствие. Кажется, еще одного с допроса ведут.
Гремят засовы. Солдаты вводят полуживого Федора и, прислонив к стенке, удаляются. Он совсем другой, хотя кроме надорванного рукава, никакого повреждения на нем не видно. Перед уходом старшина конвоя поправляет склоненную набок голову мнимого Колесникова, косвенным взглядом как бы рекомендуя его вниманию Татарова.
Егоров (вполголоса). Это он, твой?
Татаров (с заминкой). Что-то не разберу, но судя по сапогам… вроде тот самый.
Егоров (иронически). Ничего не скажешь, шибко изменился Андрей Петрович.
Обступив молчаливым кольцом, заключенные издали изучают новичка. И даже Ольге требуется время примириться с этой очевидной подменой.
Ольга (стараясь пробиться в затемненное сознанье брата). Андрей, как страшно ты смотришь… ты слышишь мой голос? Это я, Ольга. Пойдем, я уложу тебя на койку. Помогите кто-нибудь, товарищи.
Молчание.
Старик. Давай, бабочка, я тебе подмогну. Ничего, к весне, к поправке дело идет. Ему отлежаться — самолучшее дело теперь.