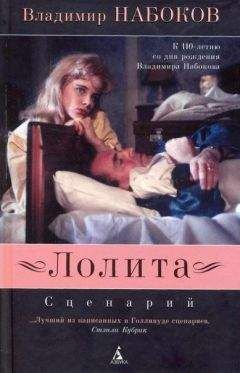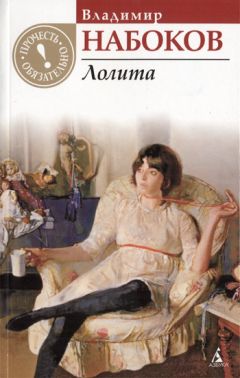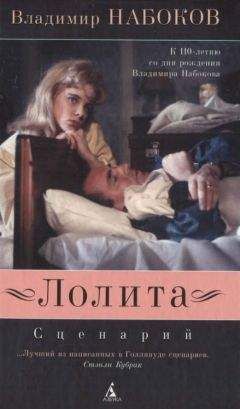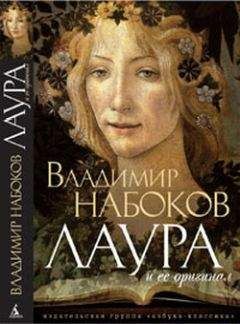Следует тут же указать, что сценарий «Лолиты», хотя и был написан по заказу голливудских постановщиков, не имеет решительно никакого отношения (кроме пародийной и сатирической составляющих) к той ярмарочной культуре с ее назойливыми зазывалами перед каждым балаганом (здесь выставляют кон-темпоральные поделки, там дают в сотый раз перелицованную мелодраму), которую Набоков лучше других умел высмеивать. «Массовое искусство», что бы это ни значило, сводится в конце концов к фарсу, то есть к тому, что как патентованный препарат вызывает гарантированный эффект и легко усваивается. Сложноустроенная трагедия Набокова, написанная им для Кубрика и только весьма незначительно использованная заказчиком в его чопорной картине (1962), была штучной, а не фабричной выделки, и для нее попросту не существовало ни подходящего постановщика, ни готовой аудитории.[13]
В своей книге о рефлексии в литературе и кинематографе Роберт Стэм приводит несколько тонких замечаний в отношении кубриковской «Лолиты», объясняющих главные различия между сценарием и фильмом. Он обращает внимание на то, что сценарий, в отличие от фильма, стремится к замедлению действия и снижению драматизма. Кубрик не находит кинематографических эквивалентов для многих приемов Набокова — таких как опровержение читательского ожидания, частая дезориентация читателя, особенно в том, что касается «правдивости» изложения, потайное, за счет метафор и незаметного переключения регистров, введение эротических мотивов и т. д.[14]
Другой исследователь, Томас Нельсон, назвавший сценарий Набокова «в большей степени театральным и поэтичным, чем кинематографичным», заметил среди прочего, что в фильме Кубрика по различным причинам не была «в достаточной мере драматизирована любовная сторона гумбертовской одержимости нимфетками».[15]
К этим претензиям можно прибавить немало новых, например, что одни сцены фильма нестерпимо мелодраматичны, в то время как другие сняты в стилистике нуара и черной комедии, что одни эпизоды затянуты, а другие — как треплемый ветром иллюстрированный журнал, или что в экранизации не слишком уместны референции к собственным фильмам, как это происходит в первой же сцене в отношении «Спартака».
Едва ли, впрочем, Гаррис и Кубрик могли предполагать, когда брались за «Лолиту», с какими сложностями иного рода им придется столкнуться. В то время в Америке в отношении художественных фильмов действовал суровый цензурный кодекс, до октября 1961 года попросту запрещавший «темы отклонений в половых отношениях и любые намеки на таковые» (п. 6). Ко времени выхода картины Кубрика (в июне 1962 года) это правило было смягчено («в отношении тем половых отклонений должны применяться сдержанность и осторожность»), но по-прежнему не дозволялось открыто показывать страстное влечение человека средних лет к школьнице (чем объясняется странная холодность исполнителя главной роли — Джеймса Мейсона), С точки зрения цензуры роман Набокова был нефильмоспособным. Запрещалось показывать полностью обнаженное тело (раздел «Костюмы»), «страстные поцелуи и объятия»,[16] «возбуждающие танцы» и т. п. Кодекс регламентировал даже простую съемку спальных комнат, которая должна была «сопровождаться хорошим вкусом и деликатностью»,[17] в связи с чем нельзя не вспомнить тот пассаж из «Лолиты», в котором Гумберт после утех с Лолитой в «Зачарованных» приводит постель в «несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнездышке нервного отца и его озорницы-дочки, чем о разгуле бывшего каторжника с двумя толстыми старыми шлюхами».[18]
Чтобы цензоры позволили запустить фильм в производство, Гаррису пришлось обещать, что сцена убийства Куильти, которой должна была открываться картина, не будет кровавой, что Сью Лайон (Лолита) будет казаться старше тринадцати лет, что в сцене соблазнения в «Зачарованных Охотниках» она будет облачена «в плотную фланелевую ночную сорочку до пят, с длинными рукавами и глухим вырезом, а Гумберт будет не только в пижаме, но еще в халате поверх нее».[19]
Позднее Кубрик признавался, что «если бы он заранее сознавал, насколько строгими будут [цензурные] ограничения, он бы, вероятно, вообще не стал бы снимать этот фильм».[20]
Но дело было не только в пресловутом «Кодексе сенатора Гейса» (Hays). В театре и кинематографе действовал (и действует по сей день) куда более влиятельный и всепроникающий свод правил, жестким принципам которого драматурги и постановщики следуют неукоснительно и который Набоков отменял в своем «поэтичном» сценарии.
В лекциях «Ремесло драматурга» и «Трагедия трагедии» Набоков приходит к выводу, что драматургия — единственный род литературы, не отвечающий высоким требованиям искусства. Саму основу основ драмы — управляемый причинно-следственными законами конфликт — Набоков полагал несовместимой с понятием искусства. «Высшие достижения поэзии, прозы, живописи, режиссуры характеризуются иррациональностью и алогичностью, — утверждал он, опираясь на положение Джона Китса об «отрицательной способности» подлинного искусства, — тем духом свободной воли, который прищелкивает радужными перстами перед чопорной физиономией причинности».[21] Иными словами, действие в пьесе должно строиться не по законам здравомыслия и правдоподобия, противоречащим многочисленным родовым условностям театра и кинематографа, а по иррациональному закону искусства. Эту иррациональную составляющую применительно к драме Набоков для удобства называл «логикой сновидения» или «кошмара», противополагая всем прочим пьесам «трагедии-сновидения» — «Гамлета», «Короля Лира», «Ревизора». Почти все его собственные пьесы основаны на «логике сна»: «Смерть», «Трагедия г. Морна», «Событие», «Изобретение Вальса» и сценарий «Лолиты», в котором действие развивается, по его собственному замечанию, «от мотеля к мотелю, от одного миража к другому, от кошмара до кошмара».[22]
По мнению Набокова, «высшей формой трагедии» и, следовательно, задачей драматурга является «создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного человека следуют законам его собственной индивидуальности, а не законам театра, какими мы их знаем».[23] Многие годы Набоков не оставлял надежды написать «совершенную пьесу», которая все еще «не написана ни Шекспиром, ни Чеховым». По его мнению, она должна стать в один ряд с совершенными романами, стихотворениями и рассказами и «однажды будет создана, либо англосаксом, либо русским».[24]
По-видимому, именно эту задачу Набоков имел в виду, когда в конце 60-х годов обдумывал идею «романа в форме пьесы».[25] Теперь уже нельзя сказать определенно, что именно он подразумевал под этим: нечто сродни знаменитому эксперименту с драматической формой в головокружительном 15-м эпизоде «Улисса» (стиль которого Набоков определил как «комедию кошмаров»[26]), или что-то совсем особенное и неслыханное.
После 1940 года, когда он согласился написать инсценировку «Дон Кихота» для Михаила Чехова, Набоков больше не брался за пьесы. Последним приближением к «совершенной пьесе» было для него переложение «Лолиты» на язык драмы, его «самое дерзкое и рискованное предприятие в области драматургии».[27]
В сценарии, в отличие от романа, иное освещение, иначе расставлены софиты, иной угол зрения, по-другому распределены роли. Читатель заметит, что, например, бесплотный автор предисловия к роману, Джон Рэй, в сценарии становится если не вполне действительным, то во всяком случае действующим лицом, несколько навязчивым конферансье, готовым в любую минуту вмешаться в представление; что в сценарии появляются новые эпизоды и персонажи (например, чета Фаулеров), а другие, напротив, исчезают (например, Гастон Годэн и Рита); что иначе трактуется образ Моны и призрачного соперника Гумберта драматурга Куильти. Переделке подверглись тысячи деталей, изменились хронология событий, характеристики персонажей (например, Браддока, ставшего в сценарии довольно загадочной фигурой), возникли новые мотивы и темы.[28] Набокову пришлось в сценарии наладить и запустить новый передаточный механизм, действующий, как и в романе, в обоих направлениях, то есть от начала к концу и обратно (примеры скоро последуют), таким образом, чтобы ни один из элементов общей структуры не оставался праздным. Ему пришлось воссоздать однажды уже созданную художественную иллюзию реальности куда более скромными драматургическими средствами — как если бы речь шла о снятии графической копии с написанной маслом картины.
В структуру романа был положен принцип составной загадки-картинки, которую читателю следовало надлежащим образом сложить, отыскивая в отстоящих местах книги различной формы подходящие друг к другу части, постепенно открывающие истинное значение описанных событий. В романе эта цель достигается всеми возможными выразительными и изобразительными средствами, включая и те, что Набоков нашел и испытал впервые, но и будучи ограниченным скудными средствами ремарок и реплик и безысходным настоящим временем драмы, Набоков добивается в сценарии того же эффекта составной картины.