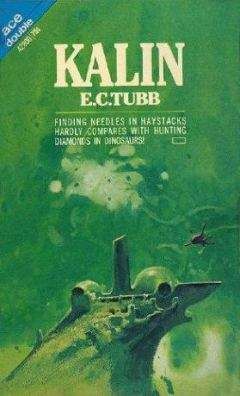Авдотья.
Ничего не сделаешь: два судейских с ним ездят. Ведь уж, говорят, гербовую бумагу подал. Да ведь я так полагаю, что наш откупится.
Зоя.
Нет, голубушка, невозможно. При мне ведь просьбу-то писали. Такого сутягу нашли, из острога недавно выпустили. Первое за жестокое обращение, а второе, что имущество после покойника Пантелея Григорьича скрыл. И свидетели, матушка, есть, свидетели. Такую бумагу написали, что волосы у меня дыбом стали. Как покойник-то захворал, так Абрам Васильич три недели в подвале сидел, книги какие-то переписывал: с чиновником это они орудовали. И чиновника-то этого разыскали, в писарях в квартале служит. Такую кашу заварили, страсть! Абрам-то Васильич говорит: терять мне нечего, я слепой человек, пускай меня судят.
Авдотья.
Ишь ты! Ах ты, батюшки!
Зоя.
Да еще… уж тебе по секрету скажу: ведь уж у Луши с Сергей-то Ильичем все покончено; хочет жениться на Луше-то, нынче объявлять приедет.
Авдотья.
Что ты?! Ну, на части разорвут теперь девку!
(Уходит).
Те же и МАТРЕНА и ЕВГРАФОВНА.
Матрена Панкратьевна.
Так вот и хожу, как полоумная! Ничего не вижу, ничего не слышу! Экой стыд, экой страм! Вот до чего мы дожили, подумай-ка!
Зоя.
Нехорошо, Матрена Панкратьевна, нехорошо! Нехороши дела! А Егорку этого, Матрена Панкратьевна, прости Ты, Господи, мое великое согрешение… удавить мало… мало его удавить! А уж Абрамку…
Матрена Панкратьевна.
Вот какого аспида вырастили, какого изверга выняньчили на свою голову… И что он зашел, что он зашел.
Зоя.
Подучили, моя красавица, подучили; где ему, дураку, самому выдумать!
Матрена Панкратьевна:
Лушка эта смирная была, теперь тоже себя показывает. Я, говорит, тиранить себя не позволю. А кто ее тиранит, кто?
Зоя.
Ах, врагов у вас много, Матрена Панкратьевна, много у вас врагов! А все это Татьяна Матвевна: она у вас все мутит. Дочь она ваша, хошь и не родная, а, извините вы меня, этакая ядовитая бабенка, этакая-то…
Матрена Панкратьевна.
Она, матушка, она…
Зоя.
Ах, кабы я была на месте Данилы Григорьича, вот бы как я скрутила, вот бы как всех перевернула, ни один бы не пикнул. Господи, прости Ты мое великое согрешение! может, я и грешу, я ей Богу…
Матрена Панкратьевна.
Сам-то худой такой стал, ходит словно ночь черная и угодить ему не знаешь чем. Взглянешь на него: что ты, говорит, смотришь – на меня? узоров не написано. Не глядишь – опять беда: что я зверь, что ли, в своем семействе, съел я, что ли, кого? А вчера ночью… (плачет) боюсь, чтоб с ним недоброе что-нибудь не сделалось.
Зоя.
Что это вы, Матрена Панкратьевна?
Матрена Панкратьевна.
Вчера ночью песню запел!
Зоя.
Какую песню?
Матрена Панкратьевна.
Протяжную такую тянул…
Зоя.
Что ж за важность такая?
Матрена Панкратьевна.
Да ведь никогда от роду, вот двадцать лет живем, никаких он этих песен не пел, пьяный никогда голосу своего не давал. Вот до чего его довели. (Плачет). Вот до какого расстройства! Егорку теперь другую неделю ловят, поймать не могут. И Абрамку этого не найдут нигде; то, бывало, от ворот не отгонишь, а вот как нужно-то, его и нету.
Зоя.
Я вчера его у Скорбящей видела, с нищими стоял. Он завсегда там. Совсем опустился, потерянный стал человек, даже жалко. Благоденствовал прежде, а теперь… Это мне даже удивительно! Что значит Бог… если кого захочет. Вот она гордость-то, Матрена Панкратьевна…
Те же и ДАНИЛА ГРИГОРЬИЧ.
Данила Григорьич.
Ты по всей Москве день-то деньской снуешь, не видала ли этого прощалыгу-то?
Зоя.
Много я, Данила Григорьич, непутного народу знаю: тебе кого нужно-то?
Данила Григорьич.
Абрашку… Абрам Васильева.
Матрена Панкратьевна.
У Скорбящей, говорят, побирается с нищими.
Зоя.
Вчера я за ранней там была – видела!
Данила Григорьич.
Слетай-ка завтра туда опять, чтоб сюда пришел. (Молчание). Фу!.. Дела, дела.
Зоя.
Что ж вам беспокоиться, ваше дело правое. Уж, неужли, прости ты, Господи, мое великое согрешение, всякой рвани поверят!
Данила Григорьич.
Ведь это, к примеру, грабеж!
Зоя.
Именно, грабеж!
Данила Григорьич.
Денной разбой!
Зоя.
Как есть разбой.
Данила Григорьич.
Опосля этого на свете жить нельзя.
Зоя.
Ежели всякого именитого почетного гражданина, да всякая голь, можно сказать, будет в суд таскать. Да по какому праву? Да что это за времена пришли?
Данила Григорьич.
Времена пришли тяжкие! Не то что, например, что, а всякий норовит, как бы тебя за ворот, да к мировому. Грешным делом загуляешь, в газетах отпечатают. Развелось теперича этой сволочи: за рубль серебром так тебя опозорит, и в город не показывайся. По ряду-то идешь, словно сквозь строй, все на тебя смотрят, чуть не подсвистывают. Читали мы, думают, про твои дела! А какие дела? За свои деньги пошумели. Экие дела важные!
Зоя.
Про нашу сестру тоже описывают.
Данила Григорьич.
В старину, бывало, на перекрестках шарманки игрывали, али кто раек показывал: извольте, город Париж, как доедешь, угоришь… Никому обиды не было. А нынче на перекрестках-то, как собаки, на тебя бросаются с этими газетами. Извольте получить описание, как вчерашнего числа такие-то купцы в Сокольниках всю посуду перебили. Занятное происшествие, оттого и дети к родителям страху не имеют. Сын не должен знать, что отец делает. А теперича он прочитает в газетах… Про тятеньку-то вон что означено, говорит, вон какие дела: стало быть и мне можно, и давай чертить. От этого от самого.
Зоя.
Уж именно, Данила Григорьич, может я и грешу, а что… ей-Богу!..
Данила Григорьич.
А этот, маиор-то! Вот выжига-то! Как было он меня смазал-то! На какую штуку поддеть-то хотел.
Зоя.
Уж захотели вы!
Кучер (входит).
Как угодно, а поймать нет никакой возможности… один страм.
Данила Григорьич.
Где же он теперь?
Кучер.
В Роговскую ударился, там где-нибудь. Городового просили, чтоб подержал. Нам, говорит, невозможно. Коли ежели он что украл, объявку подайте, а ежели по своей воле идет – ничего. Нам, говорит, притеснять публику не велено. Пущай, говорит, ходит: Москва велика.
Данила Григорьич.
Дурак! Ты должен был говорить, что этот молодец от своего хозяина скрывается.
Кучер.
Говорили, да ничего не поделаешь. Мы, говорит, подозрительных людей останавливаем. Ежели бы, говорит, он ночью, например, шел… с узлом…
Данила Григорьич.
Вот, пошли дурака-то.
Кучер.
Как угодно, а что невозможно… (Уходит).
Данила Григорьич.
Один сын распутный, другой из дому родительского убег, племянник говорит, что я его ограбил… Что же я, например? Как ты меня понимаешь?
Зоя.
Одна неблагодарность! Истинно, можно сказать…
Данила Григорьич.
Молчи! (К жене). Как по твоему?
Матрена Панкратьевна.
Что с тобой, батюшка?
Данила Григорьич.
Это я к тому, например, что все против меня пошли. (Матрена Панкратьевна плачет). Эти самые твои слезы с детей взыщутся, потому все это они…
Матрена Панкратьевна.
Батюшка, Данила Григорьич, послушай ты моего бабьего разуму: выгони ты из нашего дому это отродье проклятое, пущай хошь по миру ходят.
Зоя.
Вот тогда и узнают, что вы для них значили. Этакая неблагодарность, этакая черная неблагодарность! Господи, прости ты мое великое согрешение…
Данила Григорьич (к жене).
Это ты так точно! Конченое дело! Эй, кто там? (Показывается в дверях девушка). Этак будет вернее. (К Зое Евграфовне). Так ты лети сейчас, тут недалеко, (Жене). Дай ей два пятиалтынных на извозчика. Может, он там за вечерней. Лети, и чтобы он, например, сюда шел: мол, Данила Григорьич пристроить хочет, будет, мол, шляться… Чтобы беспременно.
Зоя.
Мигом я тебе это дело обработаю.
Данила Григорьич.
Старайся. Ты меня знаешь?