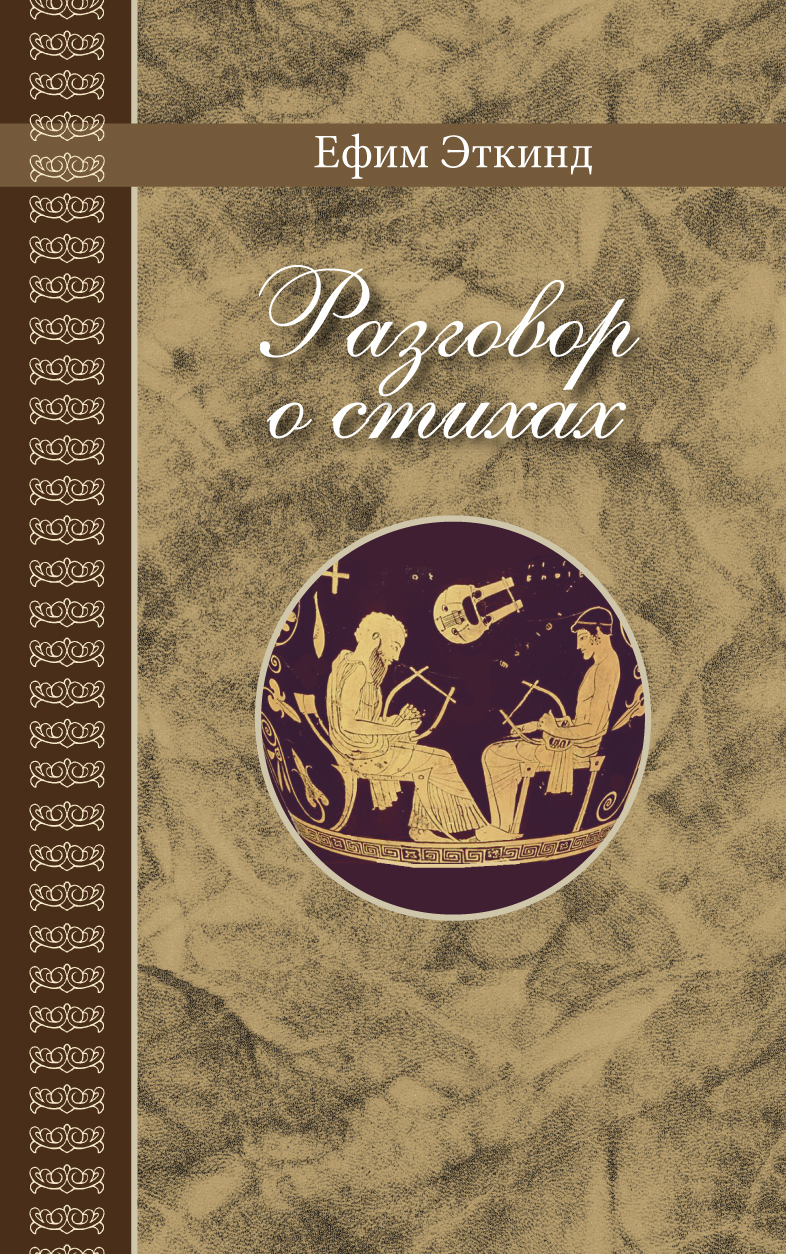этой первоначальной пушкинской версии Рифма – дочь не нимфы Эхо, а самой Мнемозины и, значит, сестра муз. Этот вариант Пушкина не удовлетворил: видимо, ему показалось необходимым рассказать древний миф (или подражание мифу) гекзаметром, стихом самих греков, а не безразличным к этой теме фольклорно-песенным четырёхстопным хореем. Это он осуществил несколько позднее, а заодно и придал сочинённой им легенде большую содержательность.
Контекст у Пушкина и Лермонтова
Контекст, который требуется для понимания «Рифмы», довольно широкий; особенность же его в том, что он, этот мифологический контекст, лежит вне данного стихотворения, да и вообще вне творчества Пушкина. Назовем его внешним контекстом.
Привлечь его для понимания стихов не так уж трудно. Он содержится в словаре – если не в общем, то в специальном. В этом смысле можно сказать, что стихотворение, требующее такого внешнего контекста, не слишком отличается от стихотворения вроде «Прозаика и поэта». Если мы, например, не знаем слова «тетива», то посоветуемся со словарём и выясним: тетива – это шнурок, стягивающий концы лука. Если мы не знаем, что такое Геликон, словарь нам объяснит: Геликон – гора, где обитали музы. Так что в принципе отношение к слову в том и другом случае сходное: слово обладает закреплённым за ним объективным смыслом, который независим от воли каждого данного автора.
Пушкин всегда очень точно и логично разграничивает смысл слов, используя чаще всего общепонятные, закреплённые словарем значения. Этому его научила школа классицизма, через которую он прошёл. Интересна с этой точки зрения «Зимняя дорога» (1826):
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Скучно, грустно… Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.
Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.
В этих семи строфах дана целая гамма синонимов: печаль, скука, тоска, грусть, и каждое из этих слов отличается свойственными ему, не зависящими от автора смысловыми оттенками. Поляны – печальные, потому что луна льёт на них печальный свет; дорога – скучная; песни ямщика – тоскливые («сердечная тоска»); поэту – грустно. «Скучно, грустно…» – говорит он, объединяя эти два слова в одном восклицании, но тут же и поясняет их различие:
Грустно, Нина: путь мой скучен…
А в последнем стихе – замечательное «отуманен лунный лик», которое значит не столько то, что луна подернута туманом, – луна, воспринятая здесь как живое существо, как человек («лик»), отуманена печалью.
И всякий раз, как Пушкин назовёт тот или иной из этих синонимов, он будет отчётливо различать смысловые оттенки каждого:
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать…
«Дорожные жалобы», 1830
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет – ага!
«Румяный критик мой…», 1830
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
«Дар напрасный, дар случайный…», 1828
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит…
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 1829
Даже тогда, когда Пушкин осмысляет слово по-своему, по законам собственного внутреннего контекста, он сохраняет за ним и значение общесловарное, внешнее. Так обстоит дело, например, со словами «свобода», «воля», «вольность». Однако Пушкин и здесь отчётливо разграничивает смысловые оттенки синонимов:
Ты для себя лишь хочешь воли…
«Цыганы», 1824
На свете счастья нет, но есть покой и воля…
«Пора, мой друг, пора!..», 1834
Свободы грозная певица…
Хочу воспеть свободу миру…
«Вольность», 1817
У Пушкина свобода – понятие политическое, общественное; вольность – общефилософское; воля – скорее внутреннее, психологическое. В основном такое смысловое разграничение соответствует и разграничению словарному.
У Лермонтова, как правило, можно видеть собственное осмысление излюбленных им слов, раскрывающихся читателю не в одном каком-нибудь стихотворении, а в контексте, который можно назвать «контекст “Лермонтов”». Некоторые из самых важных для Лермонтова слов таковы: страсть (страсти), огонь, пламя, буря, трепет, мечта, блеск, шум, тоска, пустыня, приличье, тайный, холодный, могучий, святой, отрада. Возьмём одно из них – «пустыня». Вот несколько контекстов, в которых оно встречается:
1. В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас…
«Памяти А. И. Одоевского», 1839
2. За жар души, растраченный в пустыне…
«Благодарность», 1840
3. И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Нарушена святая тишина
Вокруг того, кто ждал в своей пустыне
Так жадно, столько лет спокойствия и сна!
«Последнее новоселье», 1841
4. Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой…
«Я верю: под одной звездою…», 1841
5. Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
1841
Мы привели только пять примеров из многих возможных. Уже они говорят о большой эмоциональной насыщенности слова. Так, в примере 2 «пустыня» – это бесчувственные, бездушные люди, те самые, которые способны положить камень нищему в его протянутую руку. В примере 1 идёт речь о сибирской