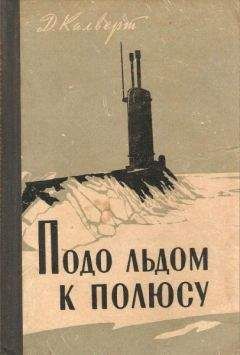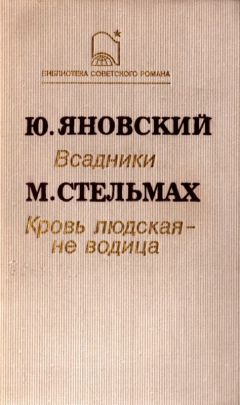Олег Асиновский
Сборник стихов 'Рассказы'
Археолог жаждал сена,
вечнозеленый сеновал,
как слона под Карфагеном
своевременно клевал.
Ископаемого сена
оперенный слой крылатый
археолог под колено
кожаной кладет лопатой.
Так умаялся, что пятки
съежились. И в каблуки
в боевом вошли порядке
карфагенские полки.
Белошвейка в сани
на ходу садится.
У нее в кармане
булькает водица.
Под водой столкнулись
утка и пингвин.
Сани развернулись.
Северный раввин
из саней наружу
вышел и пропал.
На Голгофе в лужу
римлянин упал.
Держит белошвейка
сани на весу.
И она — еврейка.
Горную росу
ниткой собирает,
штопает карман.
С птицами играет
под водой шаман.
«Богатырствует девица-рыболов…»
Богатырствует девица-рыболов,
подо льдом свернулась калачом.
И акула, жирная как плов
поскакала в степи за врачом.
Ханский врач подкову разогнул.
На руках над прорубью стоял.
Он здоровье женщине вернул,
перерыболовил, обаял.
«В животе матрешки гадано — не гадано…»
В животе матрешки гадано — не гадано
пепелище поймано. Выставили пост.
В животе прогулки от Москвы до Бадена
глазкам гренадерским Солнце или рост
разрешают бегать в животе лица,
стряхивать в матрешку пепел беглеца.
Пепелище беглое на Москве лежит,
в Бадене животик детский сторожит.
«В зеленых насаждениях свистят…»
В зеленых насаждениях свистят
врачи-домовладельцы.
И соловьи, как пыль летят.
И дышат ей умельцы.
Палата номер семь цвела
в году шесть раз обильно.
И клюв, растущий из чела
врачу мешал не сильно.
И врач врачонка породил.
И кормит жирным свистом,
чтоб соловья за клюв водил
в палату к онанистам.
«В мягкую калитку мальчик безбородый…»
В мягкую калитку мальчик безбородый
кулаками кашляет, голосом стучит.
Золушка-калитка, брысь на огороды
холодные, как туфелька. Бороду на щит
свесил папа мальчика. Папа-огород
Золушку в пустыне держит и — молчок.
Брысь на огороды, избранный народ.
Золушка-еврейка, где твой кулачок?
«Викинги купают обезьянок…»
Викинги купают обезьянок.
Каменные викингов глаза
Из воды торчат. Горит рубанок
на лежачьем камне. Образа
лягут между камнем и рубанком.
Викинг Дарвин к викингу Христу
по воде шагнет, как обезьянка.
Бег по обезьяньему хвосту
на воде страшнее, чем на суше.
Жизнь длинней молитвы и слезы.
Скучно равновесие нарушу,
образа спасая от грозы.
«Вязанка хвороста исправна…»
Вязанка хвороста исправна.
И на своих ушла ногах
от мельника, который плавно
болеет в дантовых кругах.
Еще болеет он безвольно.
И слезы в мутную муку,
как хворостины хлебосольно
кунает, лежа на боку.
На правом лежа или левом
не выдал камень путевой.
Вязанку хвороста на древо
Адам закинул головой.
Вязанка хвороста съедобна.
Хлеба круглее, чем клыки.
И по-фамильно, по-микробно
упомянулись от Луки.
«Голышом в пластмассовой бутылке…»
Голышом в пластмассовой бутылке
инквизитор сядет и замрет.
Фруктов одинаковых опилки
раздавил и сердце разобьет
атаману мягкому по сути
своего сердечного звена.
Инквизитор ласковее судит.
И зерно с пластмассового дна
в Райский сад летит из горловины.
Атаман улыбку развернул.
И губами зернышко из глины
в грудь средневековую воткнул.
«Грузило томное, рукав позолотив…»
Грузило томное, рукав позолотив,
за ниткой спряталось свинцовой.
Его разыскивать Сизиф
с горы бросается в обновы,
плывущие с коров нерукотворных
к ногам пастушки молодой.
В глазах ее огнеупорных
Сизиф горячей бородой
застрял и за рукав хватает
пастушку сонную, как нить.
Корова головой мотает,
мычит и пробует скулить.
Древнее животное
открывает душу.
Выкатилось потное
из воды на сушу.
Золотоискатель
моет сапоги.
Душеоткрыватель
катится с ноги.
Сердце его смуглое
красную росу
гонит через круглое
тело, как лису.
«Еврейский царь эксперименты…»
Еврейский царь эксперименты
терпит, как стрелу в плече,
чтоб в нерабочие моменты
мгновенно вспомнить о враче.
Врач по египетской привычке
освобожденье от работы
ему на каменной табличке
рисует, как ландшафт Субботы.
Царь на Голгофу удалился,
мелькнул в снегах его мизинец,
где нежный римлянин резвился,
и славянин шипел в зверинец.
«Есть площадка. Офицер из бани…»
Есть площадка. Офицер из бани
веником грозил туда.
Стрелы красные на плане
рисовал. Свиней стада
в море прыгали с площадки.
Сердце после пересадки
дольше стада проживет,
гнездышко себе совьет.
За грузовиком пшеницу
собирают пионеры.
Это юноши в теплицах,
диатез, галеры.
Пугачев уселся в клетку,
темная лошадка.
Это профиль на монетку,
азбука, лампадка.
«За хлебом в глушь очередей…»
За хлебом в глушь очередей
коляску новичок-стоятель
везет по головам людей.
Младенец у него приятель.
Для них в серебряном бревне
готовит очередь жилище.
Стоятель ползает в окне
и жрет ее хвостище.
Улыбок деревянных край
младенца не пугает.
И он мусолит каравай.
И сам себя ругает.
Зимуют белые собаки
с пуговицей белой, шерстяной.
Нет лица у бледного рубаки,
потерялась пуговица. Зной
выбирает бледность, как собачку.
Самая горячая зимой
затевает с пуговицей скачку.
Но рубака просится домой.
Он лицо оставит у порога.
Зазимует с маминым лицом.
Не найдется у нее предлога
пуговицу выбрать подлецом.
«Змея ползет. Она — Емеля…»
Змея ползет. Она — Емеля.
Она — мужчина. Звук земли
в ее шагах. Мы пересели
к шагам поближе. Залегли.
Емеля полз быстрее звука
туда, где музыка спала.
Он — пианист. Змею, как руку,
как ногу жалила пчела.
Мы пересели в самолеты,
насквозь прозрачные без нас.
Иллюминаторы и ноты
Емеле не открыли глаз.
«Интеллигенция присмотрит за животными…»
Интеллигенция присмотрит за животными.
Румяная, собачек малокровных
построит за колоннами пехотными
рядами песьими. Сама в рядах неровных
порядок наведет нечеловеческий.
Теперь собачки, как алфавит греческий
помощники героев-грамотеев,
всех комиссаров, конников-евреев.
Карандаши клюют мешок.
От разноцветной ласки
зацвел прыщами пастушок
из фараоновой коляски.
Мешками розовыми путь
устелен до кровати.
Стыдится карандаш взглянуть
на мумию в халате.
Коляска раздавила мышь.
И грифель раскрошила.
И пирамиду, как малыш
объятьями душила.
«Коромысло на поверхности песка…»
Коромысло на поверхности песка
разлеглось и женщину пугает.
Воду зачерпнул ей от куска
тот, который попрекает
женщину проглоченным куском.
Зачерпнул и рядышком разлегся.
С коромыслом женщина пешком
по воде пошла. Мужик увлекся
женщиной, как собственным ребром.
Коромысло в грудь свою вживляет,
ведрами гремит. Небесный гром
на песке следов не оставляет.
«Космонавт из красной шубы…»