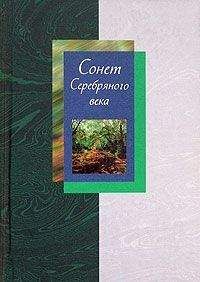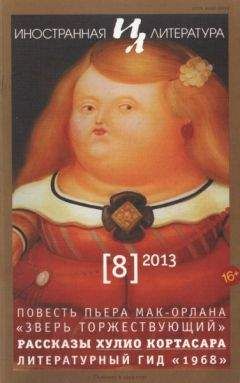Ознакомительная версия.
Людмила Мартьянова
Сонет Серебряного века. Сборник стихов. В 2 томах. Том 2
Как много в этом слове – океан!
Еще ребенком я к скитаньям чуял склонность,
Любил зверей и птиц неведомых мне стран,
Тропических цветов и красок обнаженность.
Но мыслью о тебе я был как будто пьян,
О, Океан, небес и вод бездонность!
Как раб – угодливый, всесильный, как титан,
Всеотражающий и сам всеотраженность.
Ты – зеркало Вселенной. Я люблю
Неутоленность недр твоих зеленых,
Тоску, скитанья волн неугомонных.
И, жизнь свою вверяя кораблю,
Я не доскам – волнам ее вверяю,
И мощь твою – своею измеряю.
Океан! Океан! Он кипит и ревет,
Точно скрыт под водою вулкан.
Пухнет чрево его; ветер пену метет
И свистит: Океан! Океан!
Ополчившихся волн торжествующий стан
Мчит корабль, как добычу, вперед.
Далеко от земли гость неведомых стран.
Берегись, берегись, мореход!
На родном берегу у тебя есть жена,
Есть красавец-малютка, сынок.
Берегись, мореход, вероломна волна,
Океан беспощадно жесток.
Ночь и вопль. Водяная равнина мертва.
На земле сирота и вдова.
Я с борта корабля заметил на волнах
Обломок дерева, огромный, но бессильный.
Он бурей вырван был из недр земли обильной,
Где человек, как зверь, живет еще в лесах.
Вокруг ствола, в его изломанных ветвях,
Лианы обвились, как у гробницы пыльной.
Вдруг птичку увидал я на листве могильной,
Она чирикала, ей был неведом страх.
Она о гибели, грозящей ей, не знала.
Вокруг был океан да небо без границ.
Сюда не залетал никто из смелых птиц.
Но пусть на смерть ее стихия обрекала,—
Она не полетит на доски корабля:
Их песни сблизили, и небо, и земля.
Как в откровении, пророческом и странном,
Библейских образов воздушный хоровод,
Несутся облака над вечным океаном,
Плащами дымными касаясь грозных вод.
Еще они горят в огне зари багряном,
Но сумрачная ночь в объятья их берет,
И молний голубых все чаще перелет, —
И дальний гром гремит торжественным органом.
Так вот и кажется, что там, средь облаков,
При блеске молнии, при грохоте громов,
Сам Бог появится в величьи первозданном.
И ввергнет снова мир, измученный от слез,
В предвечный, огненный, пылающий хаос,
И землю унесет в безбрежность ураганом.
И день и ночь в открытом океане.
Меж двух небес колышется вода,
И кажется, что мы уж навсегда
Заключены в сияющем обмане.
Все двойственно, начертано заране:
Пожары зорь, и тучи, и звезда,
И не уйти, как нам, им никуда:
Закованы кольцеобразно грани.
Порой нальются бурей паруса.
Волна корабль с голодным ревом лижет,
И молния упорный сумрак нижет.
Яви, Господь, воочью чудеса:
Окованный стихией бесконечной,
Мой дух направь к его отчизне вечной.
Туман, кругом туман. Так жутко, неприветно.
Как в млечных облаках, стою я на скале.
Ни неба, ни воды. Нирвана. Безответно.
Все успокоилось в насытившейся мгле.
Проникнуть сквозь нее пытаюсь я – но тщетно.
Все призрачно, как тень на матовом стекле.
Ни красок, ни черты, ни точки не заметно.
Туманом окружен, не верю я земле.
Мой слух, как бы сквозь сон, живые вздохи слышит:
Там, глубоко внизу, где вечный океан,
Придавленная грудь упорно, тяжко дышит
И задыхается. Вдруг пароход-титан
Взревел. Ответный рев нестройно мглу колышет.
Храни вас Бог, пловцы! Туман. Кругом туман.
Надменный Сириус на полночи стоял.
Звенел морозный вихрь в ветвях обледенелых.
На гребнях тяжких волн, в изломах снежно-белых
Дробился лунный свет и искрами блистал.
Но глух был ропот волн, от бури поседелых,
Как будто с вечных гор катился вниз обвал,
И клочья пены вихрь налетом с них срывал
И вешал на камнях и скалах почернелых.
В спокойных гаванях дремали корабли.
Но гордый огонек заметил я вдали, —
То вдруг он возникал, то пропадал в просторе.
Безумная душа, кто ты? Зачем? Куда?
Холодный мрак прожгла падучая звезда,
А там, где был огонь, оделось в траур море.
1903
Есть в Индии, на выступе высоком,
Немая башня, вестница земли:
Ее далеко видят корабли.
Там смерть царит в безмолвии глубоком.
Чума и голод рыщут над Востоком.
И много трупов в башню принесли;
Над ними грифы тризну завели,
А кости дождь в залив умчит потоком.
Как изваянья бронзовые, спят
На древних камнях парсовой гробницы
Противные пресыщенные птицы;
Их головы змеиные висят...
А солнце жжет, от зноя воздух глохнет,
И на песке вода горит и сохнет.
1903
Как черный призрак, медленно, беззвучно
Скользит гондола. Тонкое весло
Вздымается, как легкое крыло,
И движется, с водою неразлучно.
Блестит волны бездушное стекло
И отражает замкнуто и скучно
Небесный свод, сияющий докучно,
Безжизненный, как мертвое чело,
И ряд дворцов, где вечный мрамор жарко
Дыханьем бурь и солнца опален.
Венеция! где блеск былых времен?
Твой лев заснул на площади Сан-Марко.
Сквозят мосты. Висит над аркой – арка.
Скользит гондола, черная, как сон.
Зверинец-город, скованный из стали
И камней. Сталь и камни без конца.
Они сдавили воздух и сердца
И небеса, как счастие, украли.
Ни ярких глаз, ни светлого лица,
В котором бы лучи весны блистали.
Бессмысленные камни здесь скрижали,
И золото – сияние венца.
Голодная стихия неустанно
Глотает жертвы алчней океана.
Все в золоте, во всем презренный торг.
Ни проблеска мечты, ни искры чувства.
Живет машина, умерло искусство.
Зверинец-город, мрачный Нью-Йорк!
Пустыня мертвая пылает, но не дышит.
Блестит сухой песок, как желтая парча,
И даль небес желта и так же горяча;
Мираж струится в ней и сказки жизни пишет.
Такая тишина, что мнится, ухо слышит
Движенье облака, дрожание луча.
Во сне бредет верблюд, как будто зной влача,
И всадника в седле размеренно колышет.
Порою на пути, обмытые песком,
Белеют путников покинутые кости
И сердцу говорят беззвучным языком:
«О бедный пилигрим! Твой путь и нам знаком:
Ты кровью истекал, ты слезы лил тайком.
Добро пожаловать к твоим собратьям в гости».
1903
* * *
Как Млечный Путь, любовь твоя
Во мне мерцает влагой звездной,
В зеркальных снах над водной бездной
Алмазность пытки затая.
Ты – слезный свет во тьме железной,
Ты – горький звездный сок. А я —
Я – помутневшие края
Зари слепой и бесполезной.
И жаль мне ночи... Оттого ль,
Что вечных звезд родная боль
Нам новой смертью сердце скрепит?
Как синий лед мой день... Смотри!
И меркнет звезд алмазный трепет
В безбольном холоде зари.
1907
О, странник-человек, познай священный грот
И надпись скорбную «Amori et dolori».[1]
Из бездны хаоса чрез огненное море
В пещеру времени влечет водоворот.
Но смертным и богам отверст различный вход:
Любовь – тропа одним, другим дорога – горе.
И каждый припадет к божественной амфоре,
Где тайной Эроса хранится вещий мед.
Отмечен вход людей оливою ветвистой.
В пещере влажных Нимф таинственной и мглистой,
Где вечные ключи рокочут в тайниках,
Где пчелы в темноте смыкают сотов грани,
Наяды вечно ткут на каменных станках
Одежды жертвенной пурпуровые ткани...
Коктебель, апрель 1907 г.
Из цикла «Киммерийские сумерки»
Константину Федоровичу Богаевскому
Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры,
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры;
В огне кустарники, и воды – как металл.
А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках шевелятся фигуры:
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал;
Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам...
Чей согнутый хребет порос, как шерстью, чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?
Здесь жутко в тесноте... А там простор...
Свобода... Там дышит тяжело усталый океан
И веет запахом гниющих трав и йода.
1907
Ознакомительная версия.