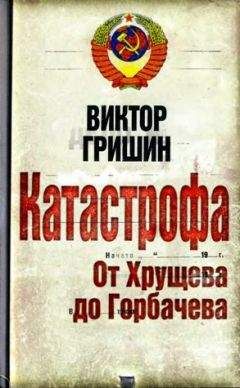Ознакомительная версия.
Ты была нестерпимо близка,
Так, что сердце срывалось с причала…
А потом ты ушла, и тоска
Снова день мой и сон омрачала…
Я проснулся. Опять – как в аду –
Склоки, сплетни, интриги и шашни.
И бреду я у всех на виду,
Невеселый, как сон мой вчерашний.
1973
У своего же огня
В юности, – застенчивый, дикий, –
Гением себя возомня,
Чтением себя пламеня, –
Помню, зарывался я в книги –
Грелся у чужого огня.
После, став немного постарше,
Сам решил я книги писать…
Годы всё писал, но, уставши,
Сдался, перестал и дерзать.
Но черновики и наброски
Всё я для чего-то храню.
Слипшейся бумаги полоски
Жалко предавать мне огню.
Это же осколочки мира,
Жившего с рожденья со мной…
Седенького папы-кассира
Видится мне облик родной.
Первая любовь моя Муся
Видится, – серьезна, светла…
Помнится, за что ни возьмусь я,
Вкладываю душу дотла…
Вдруг из давней давности вести
Старенький сулит мне блокнот:
Память о погибшей невесте
В буквах полустертых встает, –
Ира. Умерла от угара…
Вспомнили блокнота листки
Глаз ее зеленые чары,
Золота волос завитки…
Годы то влачились, то мчались,
Били по моему кораблю…
Но я о себе не печалюсь,
И не о себе я скорблю, –
Жалко мне людей, что так бледно,
Робко поживут и уйдут…
Всё же они шли не бесследно,
Всё же они чуточку тут!
Вытянусь пред ними в салюте, –
Весь я, кровяной и земной…
Пусть, пока живу, эти люди
Будут нерасстанно со мной.
Давнее пусть кажется близким,
Жгучим и живым для меня!..
Старые
перебираю
записки –
греюсь
у своего же
огня…
1974
«…»
Равняясь по самым высоким вершинам,
Тщедушен и мал, –
Давно нелюбимым Поэзии сыном
Под старость я стал.
Она предо мною захлопнула двери:
«Куда уж тебе, комару!..»
Но я остаюсь ей, Поэзии, верен
И с этим умру!..
1974
Заговор
Объединяются весна с луной
И на меня напасть приготовляются,
Шушукаются, рыщут надо мной,
Шушукаются, рыщут, ухищряются.
Угроза новой затяжной любви…
Ах, не попасть бы из огня да в полымя.
Борюсь с собой, держу глаза, как Вий,
Прикрытыми ресницами тяжелыми.
Стихи читаю вслух и про себя,
Ритм создаю холодный, острый,
бритвенный,
И рифмы обличительно скрипят…
Я – как монах, настроенный молитвенно.
Напрасный труд… Весна с луной
сильней
Моих словес холодной окрыленности, –
Стихи становятся острей, больней,
Но даже им не одолеть влюбленности.
Осеннее
Сутки сплошь, то густой, то пореже
Сыплет дождик. Я болен: знобит.
И глаза мне особенно режет
Мир мой малый, убогий мой быт.
В окнах плещутся струи косые.
А за окнами, сизо-мутна,
И по-древнему как-то Россия
Приуныла, как будто больна.
Мысли вялы, робки, словно вата.
Давит на сердце каждый пустяк.
Ничего-то на свете не свято.
Как у мало знакомых в гостях,
Тесновато…
Хулиган бы, по умственной лени,
Грянул матом бы, как обухом.
У меня ж, у поэта, стремленье
Грянуть злым и тяжелым стихом.
Как мне выйти из жизни рутинной?
Заплутался я в ней, как в лесу…
Как давно я свой подвиг старинный,
Тайный труд свой над словом несу.
Невеселое, нудное бремя,
Как намокшее в осень пальто,
Никаких не сулящее премий…
Всё не то, всё не то, всё не то!..
Всё вопросом преследует черствым:
Не напрасно ль живу, устаю?..
Нет, я верю в победу упорства,
В стойкость верю. На этом стою!..
Дождик зелень дерев ополощет.
Выйдет солнце, приветно лучась.
И покажется шире жилплощадь.
И вся жизнь – и просторней, и проще,
И гораздо светлей, чем сейчас.
«Стрясется же такое с человеком…»
Стрясется же такое с человеком:
Затор, тупик, отсутствие огня,
Стремление идти не вровень с веком, –
Плестись за ним!.. Так было у меня…
Явилась ты, глазастая, простая
(Глаза – то зарево, то водоем!),
И музыка, что за сердце хватает,
Мне прозвучала в голосе твоем.
Хотел я сердце охладить, но где там
Уйти от этой страстной простоты,
Такой советской ! – да! – по всем приметам?..
Скажи, что делать мне на свете этом,
Чтоб никогда не горевала ты?
…А я ведь было до того дошел,
Что выбился из творческого строю.
Явилась ты, – я, окрылен душой,
Учусь, учу, работаю и строю.
А я ведь было, выжив из ума,
Всё ждал зимы, буранов и заносов.
Явилась ты: весна, а не зима,
И голос гроз и запах трав донесся.
Растаял на сердце последний снег.
Всё лучшее, что временно уснуло:
Деревьев зелень, музыку и смех,
Синь неба, – это всё мне ты вернула.
И кажется: я не живу, а мчусь
Среди цветов и ласковых улыбок…
Тебе, тебе за радость этих чувств
Всей кровью отогретое «спасибо!».
Вернуть мне музыку, вернуть любовь
К стремительной и трудной жизни, к людям, –
Да я за это на любую боль
Пойду, крича:
люблю,
люблю,
люблю тебя!
Другу В.С.
Мой друг, с тобой мы навсегда
близки друг другу и родимы,
товарищи и побратимы…
А ведь приблизились года
утрат, уже необратимых…
Как обоюдоострый нож,
в мозги вонзилась мысль и жжется,
что прожитого не вернешь
и что всё меньше остается
на нашу долю и годов,
и городов, и рюмок водки…
Да, к этому я не готов,
еще веселый, пьющий, верткий,
и странно, голосом глухим,
я всё ж скажу, как из колодца:
«Дела у нас не так плохи,
и всё вернем, и всё вернется!»
Талант? Не знаю, есть ли, нет ли…
Но ежели таланта нет,
уже я не полезу в петлю,
как мог по молодости лет,
когда казалось: или – или,
или известность и успех,
или костям лежать в могиле…
Теперь живу я жизнью тех,
кто бесталанен и безвестен,
кто трудится день ото дня
и кто обходится без песен…
Теперь они – моя родня.
Так что ж! Не вечно быть мальчишкой.
Я жил, работал и любил,
и мне досталась песня: «Чижик,
чижик-пыжик, где ты был?!»
Стансы к Августе
1 Всё померкло. Стремленья остыли,
И призванья звезда не блестит…
Люди мне ничего не простили, –
Твое щедрое сердце – простит
Мое горе тебе не чужое:
Ты его разделила со мной…
Для меня с моей горькой душою
Ты – как образ любви неземной.
2 И когда мне смеется природа
Тихим смехом своей красоты,
Верю я, что сквозь горы и воды
Это ты улыбнулась мне, ты.
А когда разбушуется море,
И друзья предают так легко,
Я бесчувствен… Одно только горе –
То, что за морем ты – далеко.
3 Всё разбито. Надежды уплыли,
И вся жизнь – как утеса куски…
Но не стану холопом бессилья,
Но не стану рабом тоски.
Пусть враги мою гибель приблизят,
Пусть все беды меня сокрушат,
Но меня не согнут, не унизят…
Я с тобой – без тебя ни на шаг!..
4 Не солжешь ты, как многие люди,
Не предашь, хоть и женщина – ты,
Не оставишь меня, не забудешь,
Испугавшись людской клеветы.
Не напрасно в тебя я поверил:
Не сбежишь ты, разлукой дразня,
Ни врагу не откроешь ты двери,
Не смолчишь, когда травят меня…
5 Впрочем, я даже не презираю
И травящих толпу не кляну, –
Сам свое безрассудство я знаю,
Сам свою понимаю вину.
Сам не знал я, как дорого эта
Обойдется вина. Но душа
Всё тобою одною согрета,
Без тебя – никуда, ни на шаг!..
6 И плыву на обломке былого.
Всё пропало. И только твое
Имя, с детства мне милое, снова,
Я шепчу, и мы снова вдвоем.
И в песках возникает водица,
И в пустыне растет деревцо,
И щебечет заморская птица,
И прохладой мне плещет в лицо…
(По Байрону. Перевел Николай Щеголев)
Полдень
В этот час, в столовой сидела квартирантка, Роза Борисовна, розовощекая пухлая полуполька, стремительно вспыхивавшая от взглядов мужчин, причем кровь нескоро отливала от лица, и, облокотясь о покоробившийся стол, пренеприятно, с закрытым ртом напевала романс, один из тех романсов, которыми создают слезливое, обманчиво творческое настроение публике откормленные, «упитанные – как сказал бы Маяковский – баритоны», притворяющиеся Вертинскими, и, хотя обличье не так легко подделать под испитого Вертинского, они все-таки тщатся, стягивают выдающиеся животы, обводят вокруг глаз синие круги и поют с возможной тоской.
В этот час лирик Полозов находился за письменным столом, в комнате рядом со столовой и выстукивал на машинке очередную песню. Пение блондинки – поверьте! – содействовало ему в творчестве, хотя ни тени проникновенности не было в нем.
В этот час холмы железных крыш высматривали золотыми от солнца, и беллетрист, миновавший дом, где гнусила блондинка, прислушался к пению, шедшему сквозь раскрытую фортку, и сказал себе мрачно: «За что я, несчастный, должен всё подхватывать зорким своим взором, слышать чутким ухом
Ознакомительная версия.