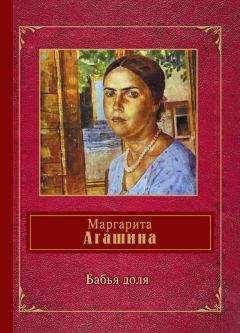Арбуз
Морозным ветреным снежком
с утра хрустит базар.
Старик накрыл большим мешком
тугой зелёный шар.
Обтёр заиндевелый ус
озябшею рукой
и закричал:
– А ну, арбуз,
арбуз, смотри какой!
К нему – народ со всех сторон.
Старик твердил:
– Бери!
Но кто-то громко крикнул:
– Он, поди, пустой внутри!
И в тот же миг
на этот крик,
как коршун,
кинулся старик.
Сказал негромко:
– Врёшь!
Сказал и вынул нож.
Как он успел?
И как он смог?
В какой зелёный круглый бок
ударил сгоряча?
Но – хлынул на снег
алый сок!
И всем почудилось:
у ног
не снег, а золотой песок —
далёкая бахча.
Арбуз лежал передо мной,
и сочен, и багров,
как щедрый августовский зной
Быковых хуторов.
Арбуз лежал,
живым огнём —
огнем земли горя.
И тихо таяли на нём
снежинки декабря.
1957
Четвёртый класс голосовал:
на ёлке будет карнавал!
А чтобы не было у нас
ни скучных, ни угрюмых,
голосовал и пятый класс,
что все придут в костюмах.
Но тут Наташа поднялась:
– Ведь мы уже не третий класс,
пора сказать мальчишкам:
они на празднике у нас
застенчивые слишком.
Давайте так голосовать:
чтоб всем мальчишкам
танцевать
на нашем карнавале!
Все «за» голосовали.
Летели дни, летели дни.
Декабрь – на что уж долог,
но он прошёл,
и вот – огни
зажглись на ветках елок.
И все пришли на карнавал,
и всяк друг друга узнавал:
– Посмотрите, это кто
в старом Мишкином пальто
и в медвежьей маске
закружился в пляске?
Он не Букин Мишка —
он косолапый мишка!
– Что случилось, что случилось?
Что с Маринкой получилось?
Была, была Маринкой
и сделалась снежинкой!
А 5-й «А» был так хитер —
он все решал без споров.
В нём каждый мальчик —
мушкетёр.
Смотрите, входят в коридор
пятнадцать мушкетёров!
Они идут, чеканят шаг.
И зал наполнен звоном шпаг
и песней о сраженьях.
У них и шпоры, и усы!
Девчонки от такой красы
застыли без движенья.
А Пете не нужны усы.
А Пете что —
надел трусы,
взял штангу из картона
и ленту чемпиона:
он самый толстый ученик
из всех четвертых классов.
Вошёл – и все узнали вмиг,
что это – Юрий Власов.
Приятно видеть силача!
Но тут, сапожками стуча,
вошла другая маска:
из-под фуражки на виски
выглядывают колоски,
в руках баранок связка.
И всё.
И больше ничего!
Но на рубашке у него,
на самом видном месте,
большая цифра – «двести».
И все кричат: – Соображай,
он – сталинградский урожай!
Вот молодец, Сережка!
Дай бубличка немножко!
Сережа пел и танцевал
и всем баранки раздавал,
и все смеялись, ели,
присев у самой ели.
И пели песни – все подряд!
Такой весёлый маскарад
придумали ребята.
А коль у вас
и в этот раз
скучал на ёлке целый класс, —
так виноват любой из вас,
а я не виновата!
Какие у тебя мечты?
И кем придёшь на праздник ты:
ромашкой в белых лепестках,
Снегурочкой, метелью?
Но только знай:
в твоих руках
живёт твое веселье.
1957
Лето начинается в Корее.
Солнце поднимается всё выше.
И уже уходит торопливо
нежная восточная весна.
Тёплыми июньскими ночами
майский жук ещё стучится в окна,
и, из сил последних выбиваясь,
белые акации цветут.
Белые медовые деревья —
словно снега первого охапки,
словно пену горного потока
ветры разбросали по ветвям.
Вечерами прячутся за лесом
белые тяжёлые туманы.
Тихо выплывает из-за сопки
медленное зеркало луны.
Белые одежды кореянок —
от луны они ещё белее!
Тихо замирает в отдаленье
ласковая песня «Ариран».
Смуглые корейские поэты
мне опять рассказывают нынче
древние легенды о драконах,
сказки о красавицах лесных.
Я давно уже не сплю ночами.
Но не сладким запахом акаций
и не влажной свежестью рассветов
сердце переполнено моё.
Я живу – смотрю, запоминаю
не глазами, не умом, а сердцем.
Будущая книга о Корее —
я живу и думаю о ней.
Думаю о ней, как о ребёнке:
пусть он не успел ещё родиться,
но уже колотится под сердцем,
с каждым днем дороже становясь.
И как имя будущему сыну,
книге я придумываю имя.
Имя – «Я люблю тебя, Корея».
Так я эту книгу назову.
1957
«Среди пыльных стеблей гаоляна…»
Среди пыльных стеблей гаоляна
притаились, почти невидны,
глинобитные стены землянок,
сохранившихся после войны.
Ребятишки играют у входа,
над травой голосами звеня…
Сталинград сорок третьего года
из землянок взглянул на меня.
А вдоль новых проспектов Пхеньяна
электричество вечер зажёг.
И трепещет над башенным краном
от дождей полинялый флажок.
От тумана вечернего сыро,
отразились в асфальте огни.
Сталинградскую улицу Мира
мне напомнили нынче они.
1957
Памятник советским морякам
Сырой туман ползёт неторопливо,
вливаясь в пароходные дымки.
На берегу Корейского залива
на вечный якорь стали моряки.
По-прежнему навеки море близко.
Волна, как слёзы, вечно солона.
На светло-сером камне обелиска
строка к строке —
героев имена:
Мария Ляма…
Сидоров…
Осташко…
И если только издали взглянуть,
то кажется – матросская тельняшка
натянута на каменную грудь.
И дата боя – памятная дата.
Запомню всё. Не плачу. И стою,
и понимаю, почему так свято
в Корее любят Родину мою.
1957
«От перегона к перегону…»
От перегона к перегону —
войны тяжёлые следы:
подходят к самому вагону
воронки, полные воды.
А на краю большой воронки,
как в чистом поле над рекой,
сидит весёлая девчонка
и машет поезду рукой.
Оставив туфли на дорожке,
горячим днём разморена,
свои доверчивые ножки
в воронку свесила она.
И столько радости во взоре,
в глазах её отражено!
Ей невдомёк, какое горе
в воронке той погребено!
Она глядит счастливым взглядом.
Она проста и весела.
И рис – растёт, и мама – рядом,
земля – мягка, вода – тепла!
И, ветры в стороны бросая,
летят по рельсам поезда,
чтоб эта девочка босая
была счастливая всегда,
чтобы она в траве росистой
рвала цветы родной весны
и мыла ножки в речке чистой,
навеки смывшей гарь войны.
1957
Как аисты в рисовом поле,
в траве самолёты стоят.
Мне руки сжимают до боли,
прощальное что-то кричат.
Расходятся клочья тумана,
шасси приминает траву.
Летит самолёт из Пхеньяна,
летит самолёт на Москву.
Из облака вынырнул лучик,
сверкнул самоцветом в окне.
А маленький смуглый попутчик
уже улыбается мне.
В пути я его обучаю:
ладошками «ладушки» бью,
и просто тихонько качаю,
и «баюшки-баю» пою.
Лежит он – такой смуглокожий,
рождённый в далёком краю,
и всё-таки очень похожий
на светлую дочку мою!
Чем ближе к Москве, тем быстрее
плывёт самолёт в облаках.
Горячий комочек Кореи
уснул у меня на руках.
1957
«Вы мне говорили в Корее…»
Вы мне говорили в Корее,
к моим привыкая словам,
что русское слово «тропинка»
особенно нравится вам.
Бывают большие дороги,
большие слова и дела.
Одна дорогая тропинка
у каждого в жизни была…
Далёко-далёко в Корее
остались не только друзья —
одну дорогую тропинку
в Корее оставила я.
И что бы потом ни случилось,
и сколько бы лет ни прошло, —
на этой хорошей тропинке
по-прежнему будет светло.
1957
Гроза пришла светло и смело!
Но я в грозу ушла одна.
И лишь секунду пожалела,
что я горда, что я сильна.
Нет, он тогда не ошибался:
мы не увидимся вовек.
Но у меня в глазах остался
зелёный цвет далёких рек.
Зачем она – ему ли, мне ли —
такая поздняя гроза?
Зачем ещё позеленели
мои зелёные глаза?..
1962