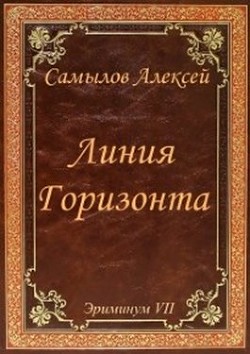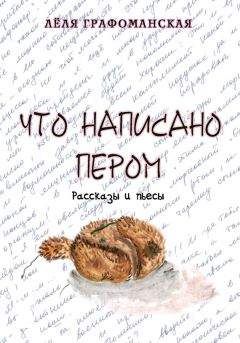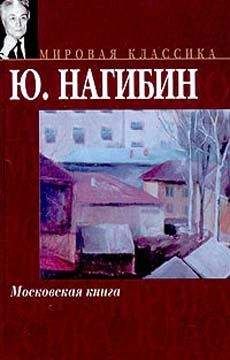потому, что в первом случае
– это есть Омар Хайям, а во втором – … вот именно, Благовест-Серебрянский.
«Нет, вовсе не рифма красит поэта, – что взвился Николай Андреевич. – А имя поэта делает любую, самую простую, самую захудалую рифму рифмой знаковой(!) … Но ИМЯ поэта – оно возникает, как? Какой-нибудь хрыч, может, и пишет одну лишь мутотень, да жена его в полюбовницах 19 у редактора издательства. А вот у мня жена с богемой литературной ни каким макаром не связана. А я же в своём творчестве никакого подобострастия к издательским вкусам не терплю! Вот и результат: за двадцать три года лишь два стихотворных сборника, да отдельные стишки в некоторых журналах. Уж сколько прекрасного мною написано … да, взять хотя бы это: «Придворный этикет не для иного простеца, / Докладом чтоб царю не впасть не в милость / Имей приятное всё время выражение лица, / И заслони своей души улыбкой гнилость. / Но при дворе мне быть, увы, не суждено, / Ведь я поэт, я истинен и честен словом …»
Но до апогея кичливого пафоса в рассуждениях Благовест-Серебряного дело, так и не дошло. Во-первых, параллельно вспоминаемому стихотворению вошло в Николая Андреевича вдруг нечто нетленное: «Изящность – блеф, словесность – вздор, / Цена сонету – луидор …». А главное, отвлёк его шум и гам в автобусе. Некая перепалка, что возникла в передней части салона, становилась всё громче и громче. Как удалось уловить Николаю Андреевичу со своего места «на камчатке» речь шла о безбилетнике. Некто, зайдя в автобус, по-тихому пробрался за спиной кондуктора вглубь салона, и где взялся за подпотолочный поручень с абсолютным видом абсолютно безгрешного пассажира. Но чем-то его напускная непорочность всё ж таки не сработала, и вскоре этот мелкий пройдоха бдительным кондуктором был громогласно изобличён.
Тут Николай Андреевич и сам вспомнил о своём неоплаченном проезде, хотя несколько нужных на автобусный билет монет были давно им приготовлены в накладном кармашке рубашки.
Да, уж – ситуация! Впрочем, ситуация для поэта простительная. Они, поэты, когда им рифма в голову вступит – они живут в измерениях отнюдь не земных. Впрочем, своё реноме земное Благовест-Серебряный ревностно чтил, и уподобляться всяким мелким проходимцам было ему, ой, как не с руки.
Тем более, кто не пойман – тот не вор. Вот и остановка какая-то вовремя подвернулась. И Николай Андреевич, соскочив с нагретого места (и уж недосуг обсасывать удачную рифму: «сияет – сочиняет» (тут надо бочком-бочком, «бестелесно» просочиться мимо конфликтующих сторон (кондуктора и незадачливого безбилетного пассажира, то есть))) и туда, к дверям, на выход.
<17:38 (рифмы шестнадцатая – восемнадцатая) 17:44>
Николай Андреевич вышел из автобуса, но радость его была не долгой. Несколько монет благополучно сэкономлено, но путь домой предстоял всё ж таки не близкий. Путь поэта – он неблизкий завсегда, и завсегда нелёгкий.
Особенно, когда пустой. Без единой строфы, то есть. Что? – если идёшь ты по свежему мощённому тротуару мимо ухоженных фасадов не облупленных краской домов – что в этом милого для сердца русского поэта, извечного поборника сермяжного отеческого бытия? Ни окурка тебе нигде не валяется, ни помятой клумбы …. А нет, окурок, вон тот, с губной помадой на мундштуке, брошен всё ж таки мимо урны! Факт для такого поборника «немытой России», как поэт Благовест-Серебряный «гениальный – идеальный» 20.
Впрочем, факт, быть может, и гениальный, а прибытка с него нет никакого. «Уж давно перестала чествовать, – вздохнул Николай Андреевич. – Мои стихи вся эта рать … которая, издательская!» И это было печально. А каждая печаль требует своего увековечивания. Так что присев на скамейку Николай Андреевич споро набросал в сотовом телефоне несколько рифмованных строк. Пусть и незамысловатых, но, быть может, истинно нетленных … как знать … как знать …
… <КАК, ЗНАТЬ?!> …
… Придя домой, Николай Андреевич переписал из телефона своё сочинение на компьютер. И высветилось на большом плоском мониторе восемнадцатью рифмами тридцать шесть строк:
К чему вся эта суета,
Коль жизнь моя – одна тщета,
И даже если вдруг удача,
То и удача – незадача,
Поскольку всякий мой успех
Лишь только новый в жизни грех…
Вот, например, она – любовь,
Что досаждает вновь и вновь,
Но как друг друга не люби,
От страсти лишь одни угли
Уж остаются всякий раз,
И это жизнь, что без прикрас…
А вот ещё одна печаль,
Когда незрима взгляду даль,
Но лишь она приют мольбе,
И лишь она пророк судьбе,
Но в небе ныне лишь туман
А где туман – там и обман….
Нечестны рифмы, что вокруг,
Нетленными не стать им вдруг –
«Ночь, улица, фонарь, аптека 21» –
Всё это Блока «фонотека»,
Мои же: «столб, витрина, дом»
С признаньем вяжутся с трудом…
Изящность – блеф, словесность – вздор,
Цена ж сонету – луидор …
И всяк уж оды сочиняет,
А уж в толпе строфа найдётся,
По вкусу князю что придётся,
В перстнях, что царственных сияет…
Увы, в искусстве правит бал
Лишь только чьих-то мнений балл,
Король воскликнул: «Гениально!»,
И вторит критик: «Идеально!»,
И вот дворцовая вся рать
Взялась безвкусье восхищать.
… <Post scriptum 22> …
Прочитав стихотворение на несколько раз, а потом просидев ещё немалое время в задумчивости возле монитора, удалил Николай Андреевич своё восемнадцатью рифмами тридцати шести строчное творение напрочь.
«Не шедевр, батенька, не шедевр … да и лирикой, честно говоря, здесь и не пахнет! Где масштабность? Где общечеловеческая значимость авторских переживаний? Где, чёрт возьми, поэтическое осмысление проблем бытия? Бытие – это не какие-то там ваши «угли», и «луидоры». Бытие – это … отринув плоть, он устремился в небеса, мечты и грёзы превращая в звёзды! А что касаемо «жизни без прикрас» … для жизни без прикрас не поэты нужны, а журналисты, да охочие до любого непотребства блогеры», – наверняка скажет Вера Степановна <вот так и слышится этих занудных поучений этот скрипучий старушечий голос>, главный редактор городского литературного журнала.
И будет она, пожалуй, права. И никакими букетно-конфетными к женщине знаками внимания сей стишок в журнал: «Из века серебряного в век двадцать первый», увы, не протолкнуть. «Что и остаётся мне, грешному, так это только каяться, и за «суету» мою, и за эту, как её, «тщету», – пробормотал Николай Андреевич, отстукивая на клавиатуре новое четверостишье:
И был я грешен, был я клят,
Где всё срамное – там мой взгляд,
И лишь одно спасенье мне –