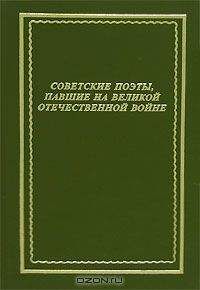Если смотреть без предвзятости, поколение сорокового года (не эстетически, а этически) оказывается ближе к «старому» гуманизму, чем к некоторым своим ближайшим предшественникам и современникам. Идея самопожертвования характерна для него гораздо больше, чем идея насилия, ненависти как составной части гуманизма. «Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться, – размышляет герой гаршинского рассказа, впервые убивший человека в бою. — Мысль о том, что мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, что я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил»[41]
«Мое поколение — это пулю прими и рухни» (П. Коган), «И необходимо падать юным… Пусть не песня, а я упаду в бою» (М. Кульчицкий).
Как герой гаршинских «Четырех дней», они торопились на войну не убивать, а подставлять свою грудь — чтобы торжествовало общее дело. Лишь помня об этом, можно понять место в их мире, в их стихах идеи интернационализма.
Можно, конечно, процитировать известное четверостишие Когана из неоконченной главы «Первой трети» («Но мы еще дойдем до Ганга, Но мы еще умрем в боях, Чтоб от Японии до Англии Сияла Родина моя») и победно объявить поэта сторонником «имперского экспансионизма» или, еще пуще, создателем образа «советского агрессора». Можно, но ведь стихи Когана совсем не про то. «Разумеется, вовсе не о военной экспансии, не о завоевании Россией Японии и Англии говорится в этих стихах. Распространится на всем пространстве земного шара и будет сиять в веках некая духовная родина поэта», — еще много лет назад хорошо объяснил Б. Сарнов [42].
«Не про то» и поэма Кульчицкого «Самое такое» (вторая крупная вещь поколения). Она тоже не об экспансии, а о России как о духовной родине поэта, о всемирном братстве людей («Только советская нация будет и только советской расы люди»), где на равных правах будут звучать и русский язык, и украинская «мова», где «как в русские в небеса французская девушка смотрела б спокойно». Не случайно эпиграфом к одной из глав Кульчицкий берет пушкинские слова: «Когда народы, распри позабыв, В единую семью соединятся».
«Самое такое» — поэма-утопия. Интернационализм был «высокой болезнью» времени и поколения.
Вообще, эти слова — коммунизм, революция, Советы — звучат в их стихах с искренностью и чистотой (может быть, последний раз в истории нашей поэзии).
После войны надежду и веру быстро сменил скептицизм. Личные, даже интимные формулы превратились в диктуемые и навязываемые лозунги и штампы. Сейчас легко снисходительно и даже злорадно упрекать поколение сорокового года за иллюзии и идеализм. Но лучше выслушаем их самих, тех, кому повезло вернуться.
«Здесь речь не просто о моей жизненной неопытности, а об идеализме целого поколения. И у меня нет охоты смеяться над идеализмом, — размышлял Д. Самойлов. — У нас принято уважать идеализм отрицающий — это мода, или убеждение, или русский обычай. Идеализм нашего типа надменно третируется людьми, которые были умнее, но не смелее нас, а теперь уже и не умнее. Они не хотели участвовать. В чем? Не было ли их самоустранение самосохранением? Не знаю. У них-то вот и принято считать наш идеализм незрелостью ума. Не знаю»[43].
Эти тревожные вопросы и сомнения куда дороже и глубже пылких обличений с ощущением «истины в кармане».
Они не предали идею, они защитили ее жизнью и стихом. И кто виноват, если идея предала саму себя?
Кстати, поэты этого поколения (опять же те, кому посчастливилось вернуться) оказались впоследствии самыми глубокими критиками социальных иллюзий. Но они писали об этом не со школьной придирчивостью, а с мощным ощущением трагедии.
Мировая мечта, что кружила нам голову,
например, в виде негра, почти полуголого,
что читал бы кириллицу не по слогам,
а прочитанное землякам излагал.
Мировая мечта, мировая тщета,
высота ее взлета, затем нищета
ее долгого, как монастырское бдение,
и медлительного падения.
(Б. Слуцкий. «Мировая мечта, что кружила нам голову…»)
Может быть, не только свою неизбежную гибель, но и эту трагедию превращенной идеи они временами предчувствовали тоже. В «Первой трети» Когана есть замечательный фрагмент о мальчишках в довоенных валенках, оглохших от грома труб.
Когда-нибудь в пятидесятых
художники от мук сопреют,
пока они изобразят их,
погибших возле речки Шпрее.
А вы поставьте зло и косо
вперед стремящиеся упрямо
чуть рахитичные колеса
грузовика системы АМО,
и мальчики моей поруки
сквозь расстояние и изморозь
протянут худенькие руки
тотемом коммунизма.
Последний стих в такой редакции опубликован только в 1989 году. Во всех предшествующих изданиях было по-иному: «протянут худенькие руки людям коммунизма». Не знаю, авторские ли это варианты или редакторская замена малопонятного и смелого образа, которая, наконец, устранена, — но в таком противопоставлении видится символический смысл. Не простое рукопожатие, элементарную демонстрацию «связи времен» дает Коган. Его мальчики, тотемически взметнувшие вверх руки, одиноки и не надеются на скорый отклик. Их жест – знак индивидуальной веры. Веры вопреки всему.
В лермонтовском «Фаталисте» есть размышление главного героя о «людях премудрых», думавших, «что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. … Какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями смотрит на них с участием, хотя немым, но неизменным!»
«А мы, их жалкие потомки, — продолжает Печорин, — скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни дм блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой»[44].
У нас речь об иной вере, не философской и религиозной, а исторической, социальной, но разница времен и поколений примерно та же. «Разочарованные потомки» могут, конечно, иронизировать над близорукостью и идеализмом «людей премудрых». Но, кажется, они иногда тайно завидуют предкам.
Между тем решающие события, которые они предчувствовали, приближались. В марте сорок первого Кульчицкий сообщает в письме: «Один урок марксизма-ленинизма на 4 курсе весь был посвящен спору из-за одной строчки моей, относительно коммунизма с точки зрения 1919 г. и 1941 г.»[45] В том же году написанные стихи В. Афанасьева заканчивались: «Сколько слов еще не сказано, Сколько песен впереди!» Оптимизм автора оказался, однако, запоздалым.
Кто-то просто не успел сказать новых слов — А. Гаврилюк погибнет во время бомбежки Львова в первый же день, 22 июня. Для других это были иные слова и новые песни. Потому что время переломилось.
Здесь всё по-прежнему:
Смеющиеся лица…
Жара и пыль… Красавцы тополя,
А где-то там,
На западной границе,
Перемешались небо и земля.
(З. Городисский. «Здесь все по-прежнему…», 1941)
То, что было прогнозом, формулой («Уже опять к границам сизым составы тайные идут»), стало жестокой реальностью. «То, что казалось кусочком поэзии, Нынче явилось в огне и железе, Сделалось жизнью, что было стихом» (Э. Подаревский).
4Проблема «пушек» и «муз» не имеет однозначного решения.
В мае сорок второго А. Сурков на партсобрании московских писателей утверждал: «До войны многим казалось, что такая вещь, как война, особенно такого невиданного масштаба, как война нынешняя, потрясая до самых глубинных основ народную жизнь, внося хаос и сумятицу в личное существование человека, что такая война должна отшвырнуть поэзию далеко за пределы магистралей, по которым она развивалась в дни и годы, предшествовавшие войне, что в огромном зловещем грохоте, который поднялся утром 22 июня 1941 года, должен был потонуть слабый, немощный человеческий голос поэта … Но самый факт одиннадцатимесячного существования поэзии в условиях войны опроверг эти опасения и прогнозы. Поэзия существует. Поэзия стала самым мобильным, самым активным, самым лобовым видом литературы в эти одиннадцать месяцев … Это первое, что говорит об явной несостоятельности прежнего ложного утверждения, будто «когда разговаривают пушки, музы молчат». Музы не замолчали. Наоборот, их голос окреп»[46]. Далее докладчик утверждал, что «наиболее честно, наиболее полнозвучно пишут те поэты, которым подвалило замечательное счастье с первых дней или месяцев великой схватки связать свою судьбу непосредственно с армией, военным мастерством фронта»[47].