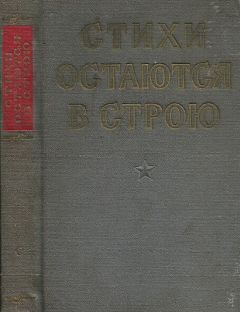Восточная Пруссия, 1944
Я из холстины сшил кисет себе,
Из клена выжег трубку ночью. Знаю:
Они в моих скитаньях и судьбе
Большую роль наверняка сыграют.
Но если я не буду стар и сед
И выйду раньше времени из строя,
Пускай возьмет и трубку и кисет
Любой, кто труп найдет мой после боя.
Я так хочу, чтоб и в другой судьбе
Они, как хлеб, необходимы были…
Я трубку выжег, сшил кисет себе,
Друзья мои мне кремень подарили.
1944
Ветер вскинул пыль повыше,
И немного погодя
Вдруг ударили о крышу
Две дробиночки дождя.
И, качая подорожник,
Заставляя травы лечь,
Обложной осенний дождик
Начинает землю сечь.
Это снова ранний вечер
Тенью встанет у окон,
И в туман оденет плечи
Потемневший террикон,
Выйдет позднею порою
Вновь соседка на крыльцо,
От дождя платком закроет
Моложавое лицо.
Дым осядет полновесный,
Листья ринутся во тьму.
И опять подступит песня
Близко к сердцу моему.
На грядах спит, свернув бутоны, мак,
И дикий хмель застыл, свисая с крыши.
Но вот, качнув заброшенный гамак,
Проходит ветер по аллее вишен.
Он осторожно, силясь закачать,
Лишь только тронет у черемух кисти,
И, задымясь от первого луча,
Вдруг ярко вспыхнут, загораясь, листья.
И день плывет по новому пути.
Проходит эскадрилья в стройном гуле.
Роса дымится. Бабочка летит.
В кустах ребрится желтобокий улей.
Он стережет пчелы звенящий взлет,
Жужжанье трутней, грузных от дремоты.
Хранит в ячейках желтоватый мед,
Смолой и мятой пахнущие соты.
Здесь, как закон, незыблем строгий труд.
И вот, стремясь в крутом полете выше,
Шумящий рой несется поутру
На запах яблонь, тополей и вишен.
А день все ближе. Резче птичий крик,
И, осторожно раздвигая ветки,
Шагает к пчельнику седой старик,
Прикрыв лицо изношенною сеткой.
Он разжигает медленно дымарь,
Берет роевню, поправляет сетку.
Он смотрит мед — расплавленный янтарь,
Разлитый бережно в прозрачных клетках, —
И осторожно выбирает пчел,
Запутавшихся в бороде косматой.
…Весенний ветер дышит горячо
Пахучим цветом яблони рогатой.
В полночь холодно, в полдень жарко.
Ветер хочет всю пыль смести.
Остается рабочий Харьков
Вехой, пройденной на пути.
Войны слева и войны справа,
В центре — смертная карусель.
И задумчивая Полтава
Перед нами лежит, как цель.
Плач старухи и крик девчурки
На развалинах изб стоит,
Я завидую нынче Шурке[3],
Что в Донбассе ведет бои.
28 августа 1943 г.
По лужам, по грязи смешная девчонка
Бежит, предлагая газеты,
По-воробьином у щелкает звонко:
— Декреты! Декреты! Декреты!
«Вся власть Советам» — декрет номер
первый,
«Мир всему миру» — декрет номер два…—
От крика у барынь — мигрени и нервы,
У генералов — кругом голова.
У генералов дрожат эполеты
От страха? От смеха? — никак не понять.
Фыркают франты: «Совдепы! Комбеды!
Разнузданная солдатня!»
Девчонке нет дела, базарит газеты
Налево, направо… Смешная, постой!
Ты прочитай и пойми, что декреты,
Эти декреты — для нас с тобой.
Отец — на войне, задыхаясь от газа,
Мать — на табачной, чахоткой дыша,
Слышат твою равнодушную фразу
И за газеты приняться опешат.
Читая, подумают оба, что станет
Их дочка наркомом страны трудовой…
Пойми же, девчонка, пойми же, смешная,
Что эти декреты для нас с тобой.
1917
Солнце бисером по панели
Рассыпалось, лаская людей…
Это было в веселом апреле,
В суете городских площадей.
Ты меня, одинокого, взглядом,
Словно солнцем, осыпала вдруг,
И пошел я с тобою рядом
Как давнишний, испытанный друг.
Я не помню, о чем говорили,
Я не знаю, куда мы шли,
Мы Америку, может, открыли,
А быть может, и мимо прошли.
Но когда я домой возвращался,
Все кружилось и пело, звеня,
Каждый встречный чему-то смеялся
И просил прикурить у меня.
Словно девичьи щеки, краснели
Стекла окон в закате лучей…
Это было в веселом апреле,
Накануне бессонных ночей.
1917
Исходи весь город
Поперек и вдоль —
Не умолкнет сердце,
Не утихнет боль.
В чьих-то узких окнах
Стынет звон и свет,
А со мною рядом
Больше друга нет.
Сколько недосказано
Самых нежных слов.
Сколько недосмотрено
Самых нужных снов!
Если б сил хватило,
Можно закричать:
На конверте белом
Черная печать.
И знакомый почерк
Поперек и вдоль.
Чем письмо короче,
Тем длиннее боль.
В дни разлуки дальней
От любимой весть —
Самое большое
Из всего, что есть.
Ты тоже просился в битву,
Где песни поют пулеметы.
Отец покачал половой:
— А с кем же останется мать?
Теперь на нее ложатся
Все хлопоты, все заботы.
Ты будешь ее опорой,
Ты должен ей помогать.
Ты носишь воду в ведрах,
Ты колешь дрова в сарае,
Сам за покупками ходишь,
Сам готовишь обед,
Сам починяешь радио,
Чтоб громче марши играло,
Чтоб лучше слышать, как бьются
Твой отец и сосед.
Ты им говорил на прощанье:
— Крепче деритесь с врагами! —
Ты прав.
Они это знают.
Враги не имеют стыда.
Страны, словно подстилки,
Лежат у них под ногами.
Вытоптаны посевы,
Уведены стада.
Народы в тех странах бессильны
Как птицы в железной клетке.
Дома развалены бомбами.
Люди под небом сидят.
Дети бегут к казармам
И выпрашивают объедки,
Если объедки останутся
В котелках у чужих солдат.
Все это видят люди,
Все это терпят люди.
Зверь пожирает живое,
Жаден, зубаст, жесток.
Но недолго разбойничать
Среди людей он будет:
Наши трубы пропели
Зверю последний срок!
Отец твой дерется с врагами.
Тяжелая это работа.
Все люди встают, защищая
Страну, как родную мать.
У нее большие хлопоты,
Большие дела и заботы.
Ей трудно бывает порою.
Ты должен ей помотать.
Июль 1941 г.
Я люблю родной мой город Харьков —
Сильный, как пожатие руки.
Он лежит в кольце зеленом парков,
В голубых извилинах реки.
Я люблю, когда в снегу он чистом
И когда он в нежных зеленях,
Шелест шин, как будто шелест листьев,
На его широких площадях.
От Москвы к нему летят навстречу
Синие от снега поезда.
Связан он со всей страною крепче,
Чем с созвездьем связана звезда.
И когда повеет в даль ночную
От границы орудийный дым,
За него и за страну родную
Жизнь, коль надо будет, отдадим.
Самое страшное в мире
Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.
Самое страшное в мире
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
Самое страшное в мире
Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих о грядущем.
Славлю солдат революции,
Склонившихся над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет.
1939