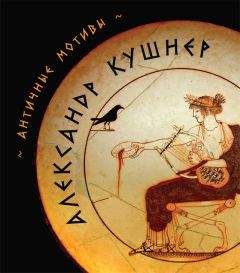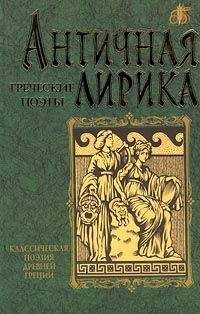Вообще мне кажется, что «холод и мрак грядущих дней», замечательно предсказанный Блоком в начале ХХ века, может быть спроецирован не только в будущее, но и в прошлое. Он приходил уже не раз, сметая цивилизации, уничтожая рукописи, сбрасывая на землю статуи, умерщвляя людей.
Самое удивительное, что бывают передышки, что одному поколению (например, моему) выпадает счастье пережить несколько эпох, увидеть смерть исторического злодея, «тирана», крушение чудовищной идеологии, возврат к другим, куда более человечным основаниям жизни. Нечто подобное, наверное, чувствовали римляне, дожившие до времен Домициана. Другое дело, что на смену прежнему злу тут же приходит новое, и человек опять удручен и недоволен. А все-таки, когда вспоминаю некоторых старших своих друзей, ну, например, Глеба Семенова, Давида Дара, А. К. Гладкова, не доживших до перемен, понимаю, что жаловаться и пенять на судьбу нельзя. Я уж не говорю о тех, кто погиб в репрессиях или блокадном Ленинграде. О чем говорить! Если бы можно было представить Мандельштама лежащим на диване в «хрущевской» квартире, где я навещал Надежду Яковлевну в конце шестидесятых. Понимание таких «простых» вещей помогало жить и даже писать стихи.
Я и о Гомере пишу здесь потому, что мне кажется, им владело примерно то же чувство. Назвать его можно благоговением перед жизнью или, если говорить не так торжественно, интересом и доверием к ней. «Дареному коню в зубы не смотрят». Ахилл в загробном мире, скажу еще раз, завидует живому поденщику, работающему в поле.
Существует, конечно, и другая точка зрения. Волю богов, не поддающуюся объяснению, можно назвать абсурдом. Можно ожесточиться и разлюбить эту жизнь, отвернуться от нее. Можно играть на руку отсутствию смысла, добавляя к мировой бессмыслице свою. Такое мироощущение даже выигрышно: так проще произвести впечатление. Все время твердить о возврате билета: сейчас верну. Не сегодня, но завтра – обязательно. И жить с этим потрепанным билетом, что ни день приподнимая его из нагрудного кармана, лет восемьдесят.
Беспросветно мрачным мне мешает быть слишком многое. Отвлекаюсь, не могу соответствовать, «не подхожу». Идешь сумрачный, бесчувственный, полумертвый – и вдруг услышишь торопящийся, задыхающийся, прихотливый, поверх всех обид и несчастий, счастливый бег на одном месте. Кто так бежит, пока ты плетешься, еле передвигая ноги? Дворовый тополь, вот кто. Тополь. И не так же ли точно бежит Бах, которого ты так давно не слушал, Бах, которому жилось ничуть не легче, чем тебе?
А еще неплохо бы перечитать любимое место у Гомера – прощание Гектора с Андромахой.
И невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,
Воду носить от ключей Мессеиса или Гипперея,
С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда!
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах
Всех конеборцев троян, как сражалися вкруг Илиона!
Гектор наклоняется к сыну, но тот пугается конской гривы, развевающейся на шлеме отца.
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.
Шлем с головы не медля снимает божественный Гектор,
Наземь кладет его пышноблестящий…
Больше всего мне нравится эта улыбка Гектора и Андромахи – посреди печальной сцены, ввиду грядущей гибели и вечной разлуки. На эту улыбку и похож смысл жизни, его мимолетное явление среди общего ужаса и тьмы. Эта улыбка – наше сопротивление абсурду, нечаянная и мгновенная победа над ним.
«Мой лучший сон – за тканью Андромаха», – сказано у Анненского. Андромаха, а не менады. «Твои мечты – менады по ночам» – это Анненский говорит «другому», скорее всего Вяч. Иванову. Анненскому дорог устоявшийся домашний быт, «когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут», – богемы он не любил. Как Гомер, – добавим мы, потому что идеал Гомера тоже – Адромаха, Пенелопа.
Гомеровский эпос то и дело пересекается лирикой, омывается и очищается ее горячей волной. И скажем правду: есть что омывать и очищать – море крови, горы трупов, человеческая жизнь приносится в жертву высшим интересам – интересам богов, становится заложницей их сумасбродства. Боги спускаются на землю и частенько незримо присутствуют в общей свалке. Это и есть история, делается она за счет любви, привязанности к дому, за счет добра и дружбы – в результате почти все погибают, проявив чудеса героизма (и коварства, и подлости) с обеих сторон. Сын Ахилла Неоптолем, ворвавшись в Трою, схватил Приама за седые волосы и вонзил в него меч. Маленького сына Гектора вырывают из рук Андромахи и на ее глазах бросают с высокой троянской стены…
Эпическое сознание – страшное сознание. Вся надежда на то, что постепенно оно заменится другим, человечным, не индивидуалистическим, но индивидуальным. Так оно и происходит, если считать, что процессы, происходящие в поэзии (и в искусстве в целом), отражают перемены, наметившиеся в историческом бытии людей (вот только бытие это протекает в разном времени у разных народов: только кажется, что все человечество перешагнуло в третье тысячелетие, – для многих не наступило еще и второе).
Всю жизнь я отстаиваю лирику, считая ее «душой искусства», – так и назвал одну из своих статей. Ее прирост и в стихах, и в живописи, и в музыке – везде – представляется мне спасительной и счастливой тенденцией. Я даже склонен думать, что и христианство связано с ней, потому и оказалось столь привлекательным, если так можно сказать (эту тему не развиваю, она увела бы слишком далеко).
Когда я написал, лет тридцать назад, стихотворение «Отказ от поэмы» – имел в виду не столько обреченность поэмы как жанра (хотя и это тоже), сколько невозможность возобновления эпоса, сопротивление эпическому сознанию. («…Пускай широкие полотна Без нас рисует кто угодно. Гигантомания в чести. Новейший Байрон любит эпос. Подстрочник выглядит как ребус. Мы взять беремся эту крепость, Но как нам дух перевести?») Сказать это в России, тем более – в Советском Союзе, было тем важней, что на двадцатый век в ней пришлось столкновение эпического и лирического начал, их почти физически ощутимая борьба. Моя юность совпала с нею. Чем была занята советская власть в «идеологической сфере»? Поощрением эпоса. Потому и выбраны в качестве жертв в 46-м году Ахматова и Зощенко, что по лирике следовало нанести сокрушительный удар. Потому и приветствовалось создание крупногабаритных романов и поэм, потому и развернулась война против «камерности и мелкотемья», потому и выплыли на поверхность еще в тридцатые годы все эти Джамбулы и Сулейманы Стальские.
Когда чабаны против баев восстали,
Прислали Ежова нам Ленин и Сталин,
Приехал Ежов и, развеяв туман,
На битву за счастье поднял Казахстан,
Народ за Ежовым пошел в наступленье,
Сбылись наяву золотые виденья.
Ежов мироедов прогнал за хребты,
Отбил табуны, их стада и гурты.
Расстались навеки
мы с байским обманом,
Весна расцвела по степям Казахстана.
Поэма в отрывках была напечатана в «Правде» в декабре 1937 года, целиком вышла в 1938 году, без имени переводчика Марка Тарловского, сочинившего ее за Джамбула.
Беда не только в теме – беда в самом стихе, воскрешающем архаические интонации, засыпающем сознание песком пустыни.
У Джамбула – песок, у других советских поэтов (и не только советских, антисоветских тоже) каменная эпическая поступь.
Чем длиннее стихотворение, тем лучше. А еще лучше – поэма.
И это после Тютчева, Фета, Анненского, Мандельштама (неудавшиеся поэмы Фета не в счет) – наиболее чутких поэтов, интуитивно избегавших отмирающего жанра, после великих достижений русской прозы (Толстой, Тургенев, Достоевский, Лесков, Чехов), позволившей стихам отказаться от повествования, бескомпромиссно обратиться к своей стиховой специфике.
«Его мы слышали, и мы его застали» – этот эпос, отравивший авторское и читательское сознание, подмявший под себя многих поэтов, в том числе талантливых, в том числе – некоторых моих ровесников.
Разумеется, нет правил без замечательных исключений. Не надо ловить меня на противоречии, подбрасывать примеры. Я и сам, без посторонней помощи, могу назвать «Двенадцать» Блока или «Облако в штанах», даже «Спекторского» при всей неровности этой вещи («Лейтенант Шмидт» и «905 год» не идут ни в какое сравнение со стихами Пастернака). Но главное: положа руку на сердце, скажите, какой же это эпос? Это лирика, прикинувшаяся эпосом, притворившаяся поэмой: лучший выход, кстати сказать, в эпоху революций, новой пугачевщины, кровавой бойни.
Так и слышу, как мне задают вопросы: а «Поэма горы»? «Поэма конца»?
Лирика, уважаемые, типичная лирика: абсолютно лирическая интонация, и никакого эпоса. И «Поэма без героя» тоже (предпочитаю «Белую стаю»).
А еще спрашивают: вам что же, не нравятся поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова? Не представляю не только поэзии, жизни уже не представляю без «Медного всадника», целиком построенного на столкновении лирического и эпического сознания («Когда я в комнате моей Сижу, читаю без лампады…»), написанного еще в отсутствие русской прозы (если не считать прозы самого Пушкина).