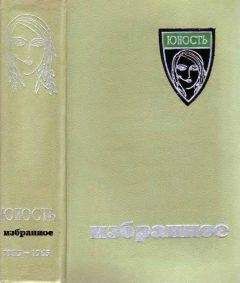— Они на медпункте, — ответил он мне лаконично, как и в предыдущие разы, когда я справилась о Мише и Борисе.
— Что они, больны, что ли? — удивилась я.
— Один из них, во всяком случае…
И я отправилась на медпункт, где и встретила Валю. Она была в белом халате, в марлевой повязке, вся очень ясная, светлая. И комнатка тоже была ясная, светлая, и солнечные зайчики дрожали на банках и склянках, выстроенных на полке. Деревянный топчан был покрыт клеенкой.
— Как в настоящей амбулатории, — заметила Валя.
А на этажерке в углу, на книгах, стоял пузатый докторский чемоданчик, подарок ее друзей в день окончания курсов.
— Это моя «скорая помощь». Здесь все наготове. — И она похлопала чемодан по желтым бокам.
От свежеоструганного топчана, от полки, на которой застыли слезки смолы и по которой еще, казалось, бежали живые соки, должно было бы пахнуть лесом, если бы не вонючая мазь. Валя втирала ее в Мишину коленку. Миша был покрыт буйной растительностью. Можно было подумать, что из каждой поры у него лезло по крайней мере по десятку волос. Даже суставы пальцев были волосатые. И хотя он был тщательно побрит (и столь же тщательно порезан), Борис на его фоне со своей русой бородкой казался почти безволосым.
На медпункте мы пробыли недолго. Валя нам предложила удалиться. Пришла женщина с ребенком. Но все же она мне успела сообщить, что уже добилась: будут строиться большие сени для ожидающих приема. Я задержалась, разговаривая с ней, и, когда вышла, услышала, как Борис говорил Мише:
— Думаешь, так уж ей приятно возиться с твоей шершавой коленкой? О нее сыр можно натирать! Придумал бы, что ли, стенокардию какую-нибудь. По крайней мере название звучное и непонятно, как лечить.
…А вечером мы пили чай у геологов. Уже было известно, что завтра «ПО-2» подбросит Мишу и Бориса во Владивосток. Занятия давно начались. Миша был с первого курса, Борис — со второго. Мы сидели прямо на полу, на спальных мешках, перед нами на вьючном ящике, покрытом листом белой бумаги, горели две свечи. Стол был завален чертежами. Угощались медом и сыром, тем самым, который Борис предлагал натереть о Мишину коленку. Мы его с трудом нарубили ножом с помощью камня. Макали сыр в мед и запивали парным молоком.
Миша был за хозяйку. Он повязался полотенцем, как фартуком, для пущей внушительности, а может быть, для того, чтобы не бросались в глаза латки на его сатиновых шароварах. (Латки он ставил сам, разорвав для этой цели майку и окуная куски в тушь. Его лозунгом было: «Как можно меньше вещей!» Но одной пары шаровар явно не хватило.) Мы обсуждали вопрос, пустят ли его еще на пассажирский самолет. Борис рассказывал, как в прошлом году он в таком же вот виде ввалился на работу к матери, которая преподает в Ленинградской консерватории, и она в ужасе только могла проговорить: «В баню, немедленно в баню!» И в ванну его не пустила.
Пили чай. Миша заваривал его с лимонником, накрошив в котелок веточки, вкусно пахнущие настоящим лимоном. Но когда чай разлили по кружкам, Валя неумолимо сказала:
— На обед вы ели консервированный борщ!
Миша огорчился и клялся, что два раза мыл котелок. Потом пришел лесник Евдокимов. Переступая через порог, он сложился вдвое, как охотничий нож, и так и не мог разогнуться. Даже сидя на чурбане, он доставал головой до потолка. Он был очень высокий и тощий, ходил в сапогах, в красном вигоневом свитере, висевшем на нем, как на вешалке, в картузе с треснутым лаковым козырьком. Лицо у него было длинное, в глубоких продольных морщинах, и когда он говорил или смеялся, щеки у него ходили, как мехи гармоники. Подбородок, серый от щетины, срезан вкось, зубы прокурены, а глаза необыкновенной голубизны. Такие глаза бывают только у сибиряков, какие-то акварельно-голубые. Лесник поставил винтовку в угол и вынул из кармана флягу.
— Это нам с Юрием Константиновичем для согрева души. Детскому саду не положено. А вы, может быть, не употребляете? — обратился он ко мне, явно рассчитывая на отказ. — Тут некоторые залетные пытались сухой закон ввести!.. — И он покосился на Валю. (Когда в сельпо иссякали запасы спиртного, а новая партия еще не прибывала, начиналось паломничество на медпункт. Но Валя «железно», по ее словам, отказывала).
Юрий Константинович оживился, вылез из своего угла, где пускал из коса мохнатые кольца дыма. Выпив, лесник сразу завладел разговором. Медведи, барсуки, дикие кабаны, тигры! Вот он, Евдокимов, идет по лесу, видит: воронье кружит над кустами, галдит! Спустятся и взовьются! Он подкрадывается — так и есть: медведь пищу принимает, быка разделывает. А воронье учуяло мясо, тут как тут, стаей слетелось. Бедняга только успевает лапами отгонять, так они ему надоели, так осточертели! Знай отмахивайся! И не заметил лесника… Или тигр чушку и семь поросят забил, подзаправился и пошел, а тут косолапый подоспел на готовенькое. Тигр вернулся, непорядок! Медведь наутек, понимает, чье мясо ел. Тигр за ним. Гонит, а броситься боится. Медведь здоровущий, тигр-то не очень охотно с таким связывается. Лапа такого медведя имеет вес! До вечера ломали кусты и деревья. Леснику надоело за ними следить, улегся спать в шалаше. Слышит сквозь сон: медведь пыхтит. Черт с ним, с медведем! Спит дальше. Утром проснулся. Так и есть: следы медведя, а за ним тигр. Видать, всю ночь гонял, а так и не напал!.. Это вовсе не были «охотничьи» рассказы, старик не бахвалился. Он просто рассказывал о жизни леса. Лес — его профессия!
Но, видно, эти лесные истории слушала только я. Юрий Константинович опять забрался в свой угол, дымит и явно далек сейчас отсюда. Борис лежит на животе, щиплет бородку и время от времени вставляет иронические замечания. Он все это уже знает. Миша делает вид, что слушает очень внимательно, но, кажется, занят только тем, что передвигается на своем спальном мешке и старается сесть так, чтобы его тень на потолке касалась Валиного плеча и чтобы их головы соединялись. Валя вроде и не смотрит на Мишу, вроде и не смотрит на тень, но все замечает и каждый раз отодвигается.
Она чинно натянула платье до самых бот и, поставив локотки на колени, подперла щеки кулаками, щурится на огонек свечи. И думает о чем-то своем.
— Ну вот, здесь же нельзя жить так просто, — говорит она, воспользовавшись тем, что лесник замолчал, раскуривая трубку. — Нельзя же вот так просто, — продолжала Валя, — вставать, пить чай, делать уколы, ложиться спать. Опять вставать. Ведь человек для чего-то родится! Должен же он сделать в жизни что-то такое…
— Чтобы сразу на пьедестал и памятник из бронзы, — промолвил Юрий Константинович из своего угла.
— И бюст на родине и по радио чтобы в день не меньше пяти раз передавали, — подхватил лесник.
— Это очень естественно, — ринулся в бой Миша, — что молодой человек мечтает не просто прожить жизнь, а что-то совершить. И нет здесь ничего смешного…
— А ты живи, жизнь покажет, чего ты стоишь, — сказал Евдокимов. — Человек ты или опенок, видно будет. Если человек, то и будешь поступать, как человеку положено, а опенок — опенком и останешься… Я вам притчу одну расскажу.
— Про медведя и тигра? — иронически улыбнувшись, спросил Борис.
— Нет, про вас самих… Меня на фронте осколком прихватило. И попал я в полевой госпиталь. А тут как раз прорыв — танки немецкие прорвались. Грохочет все, и не поймешь: у себя ты еще или уже к немцам попал. Ну, а в госпитале работа идет своим чередом. В школе разместились, в селе. В классе операции делают. В сумерках дело было. Санитарка лампу над столом держала и увидела в окно, что напротив школы, ка пригорке, за деревьями, немецкий танк встал и дуло орудия прямо на окно наставил. Гусеницами крутит, а сам ни с места: заело у него, что ли. Она лампу другой санитарке сует. «Держи! — говорит. — Стой так, окно загораживай. Я сейчас гранату под него…» Здоровенная была деваха, в три обхвата. Ну, и подползла, и еще с двумя легкоранеными, забросали. Так о ней потом всю неделю газеты писали и в профиль и в анфас снимали… Боевая была! Наша, сибирячка! А про ту, про другую, что лампу держала, забыли. А оно, может, и не меньше геройства надо было под расстрелом стоять! И не удрала, не закричала. Только лампа у нее в руках прыгала, а хирург ругался: даже лампу, мол, держать не может как следует…
— А ты к чему это, дед? — спросил Борис.
— А к тому, что вы замечаете только, что видно, что в глаза кидается. И вот ихний брат, — и он большим пальцем ткнул в меня, — тоже! Там и граната, и взрыв, и танк горит, и она кричала: «За Родину!» А может, и не кричала… Ну, а что расписывать, когда керосиновая лампа, да и то, небось, закоптелая и стекло битое?.. Вам так, чтобы сразу на памятник, как Юрий Константинович сказал. А оно-то, может, каждый день случается, замечать надо!.. Вот в пятьдесят четвертом году, помнишь, Юрий Константинович, когда ты здесь зазимовал с этим, ну, как его, рыжим таким, у него все присказка была «чтоб тебя»? Так мы и прозвали его «Чтобтебя»!