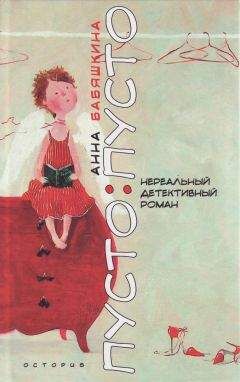Ознакомительная версия.
«Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?..»
Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда
кто-то властный наши души друг от друга уводил?..
Чем же я вам не потрафил? Чем я вам не угодил?
Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены,
словно я вам что-то должен… Мы друг другу
не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи в мутном море бытия.
Всё, что рядом, тем дороже, чем короче жизнь моя.
Не сужу о вас с пристрастьем, не рыдаю, не ору,
со спокойным вдохновеньем в руки тросточку беру
и на гордых тонких ножках семеню в святую даль.
Видно, все должно распасться. Распадайся же…
А жаль.
«Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!..»
Как мне нравится по Пятницкой в машине
проезжать!
Восхищения увиденным не в силах я сдержать.
Кораблями из минувшего плывут ее дома,
будто это и не улица – история сама.
Но когда в толпе я шествую по улицам Москвы,
не могу сдержать отчаянья, и боли, и тоски.
Мои тонкие запястья пред глазами скрещены,
будто мне грозят несчастья с той и с этой стороны.
Как нелепа в моем возрасте, при том, что видел я,
эта странная раздвоенность, растерянность моя,
эта гордая беспомощность как будто на века
перед этой самой Пятницкой, счастливой, как река.
«Кабы ведать о том, кабы знать…»
Кабы ведать о том, кабы знать:
чем дышать, на кого опереться!..
Перед вами – пустая тетрадь,
с ней еще предстоит натерпеться.
Жил, пел, дышал и сочинял,
стихам был предан очень.
Он ничего не начинал,
все так и не закончил.
Жил, пел, ходил, дышал, как все,
покуда время длилось
в своей изменчивой красе…
Потом остановилось.
Как поглядеть со стороны:
пуста тщета усилий.
Но голоса чужой страны
он оживил в России.
Никто не знает, что нужней
да и поймет едва ли…
Но становились мы нежней,
и раны зарастали.
Никто не знает, чьей вины
пожаром нас душило…
А может, не было войны?
Будь проклято, что было!
«Корабль нашей жизни приближается к пристани…»
Корабль нашей жизни приближается к пристани,
и райская роща все яснее видна.
Чем больше раздумываем, тем ближе мы к истине,
но, чем ближе мы к истине, тем все дальше она.
«Становлюсь сентиментальным…»
Становлюсь сентиментальным.
В моем облике печальном
что-то есть от поздних рощ,
по которым с перебором
ходит ветер, по которым
шелестит осенний дождь.
Лист моей щеки коснется,
как прохладная ладонь,
и минувший век проснется
весь – надежда и огонь.
Пред его закрытой дверью
подымаюсь на носки,
будто помню, будто верю,
будто млею от тоски.
«Воспитанным кровавою судьбой…»
Воспитанным кровавою судьбой
так дорого признание земное!
Наука посмеяться над собой
среди других наук – дитя дурное:
она не в моде нынче, не в чести,
как будто бы сулит одни мытарства…
А между тем, чтоб честь свою спасти,
не отыскать надежнее лекарства.
Погас на Масловке фонарь
и дремлет, остывая.
Сменил страничку календарь
под нервный вскрик трамвая.
Растаяла ночная мгла,
и утро заклубилось…
Собака в комнату вошла
с надеждою на милость.
Собралися молокане,
жар почуяв под ногами.
Взяли в руки тяжкий плуг,
не щадя ни спин, ни рук.
Улеглись пустые споры,
сникли праздные дела.
Только спины – как опоры,
только руки – как крыла.
Шли они передо мною
белой праведной стеною,
лебединым косяком.
Ни печальных и ни слабых.
Белые платки на бабах.
И мужик за мужиком
в белых робах домотканых,
в черных кепках полотняных
с духоборским козырьком.
Улеглись дневные страсти…
Вот и славно! Вот и счастье!
Я им водочки поднес,
чтоб по-русски, чтоб всерьез.
Но они, сложивши крылья,
тихо так проговорили:
«Мы не русские, браток —
молочка бы нам глоток…»
И запели долгим хором
о Христа явленье скором.
И потрескивал костер,
их сопровождая хор.
В свете искорок бивачных
сонмы ангелов прозрачных
в платьях призрачных до пят,
вскинув крылья за спиною,
всё кружились предо мною,
словно листья в листопад.
«Мой дом под крышей черепичной…»
Мой дом под крышей черепичной
назло надменности столичной
стоит отдельно на горе.
И я живу в нем одиноко
по воле возраста и рока,
как мышь апрельская в норе.
Ведь с точки зрения вселенной,
я – мышь и есть, я блик мгновенный,
я просто жизни краткий вздох…
Да, с точки зрения природы
ну что – моя судьба и годы?
Нечаянный переполох…
Весь в туманах житухи вчерашней,
все надеясь: авось, как нибудь, —
вот и дожил до утренних кашлей,
разрывающих разум и грудь.
И, хрипя от проклятой одышки,
поминая минувшую стать,
не берусь за серьезные книжки:
все боюсь не успеть дочитать.
Добрый доктор, соври на прощанье.
Видишь, как к твоей ручке приник?
Вдруг поверю в твои обещанья
хоть на день, хоть на час, хоть на миг.
Раб ничтожный, взыскующий града,
перед тем, как ладошки сложить,
вдруг поверю, что ложь твоя – правда
и еще суждено мне пожить.
Весь в туманах житухи вчерашней,
так надеюсь на правду твою…
Лучше ад этот, грешный и страшный,
чем без вас отсыпаться в раю.
Раз и два.
Нынче ты одна, Маруся, в доме голова.
Раз, два, три.
Ничего, что денег мало, – в поле собери.
Раз и два.
Ты одна, моя Маруся, в доме голова.
Раз, два, три.
Ничего, что горя много, – плюнь и разотри.
«Пора уже не огорчаться…»
Пора уже не огорчаться,
что в жизни предстоит прощаться,
что скоро выпадет пора
обняться дружною семьею
мне с вами, вам же всем – со мною
пред тем, как сгинуть со двора.
Шестидесятники Варшавы,
что вас заботило всегда?
Не призрак злата или славы,
а боль родимого гнезда.
И не по воле чьей-то барской
запоминали, кто как мог,
и Яцка баритон бунтарский,
и Виктора тревожный слог.
И в круговерти той безбрежной
внимали все наперечет,
что Витольд вымолвит с надеждой,
что Адам пылко изречет.
Как души жгло от черной хвори!
Но как звенели голоса!
И все мешалось в этом хоре
и предвещало чудеса.
Конечно, время все итожит:
и боль утрат, и жар забот,
и стало въявь, что быть не может
чудес – а только кровь и пот.
Шестидесятники Варшавы,
хулы и кары не боясь,
вы наводили переправы,
чтоб ниточка не порвалась.
«Арбата больше нет: растаял, словно свеченька…»
Арбата больше нет: растаял, словно свеченька,
весь вытек, будто реченька; осталась только
Сретенка.
Сретенка, Сретенка, ты хоть не спеши:
надо, чтоб хоть что-нибудь осталось для души!
«Мой брат по перьям и бумаге…»
Мой брат по перьям и бумаге,
одной мы связаны судьбой.
Зачем соперничать в отваге?
Мы не соперники с тобой.
Мы оба к сей земле пристрастны,
к ней наши помыслы спешат,
а кто из нас с тобой прекрасней —
пусть Бог и время разрешат.
«Ребята, нас вновь обманули…»
Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.
Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.
Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
летает, как голубь во тьме.
«…И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен. Вы оба…»
…И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен.
Вы оба.
Мы стали братьями давно, мы все теперь родня
до гроба.
И тот, что в облачке витает, и тот – в подвальном
этаже,
нам не в чем упрекать друг друга, делить нам нечего
уже.
Пустые лозунги любви из года в год теряют цену,
хоть посиней до хрипоты, хоть бейся головой о стену.
Они слабы и бесполезны, как на последнем вираже,
и мы уж не спешим друг к другу: спешить нам
незачем уже.
Но если жив еще в глазах божественный сигнал
надежды,
подобный шепоту листвы – необъяснимый, вечный,
нежный,
но если на сердце тревожно, но если горько на душе,
рискнет ли кто сказать, что нынче терять нам нечего
уже?
«Наша жизнь – это зал ожидания…»
Ознакомительная версия.