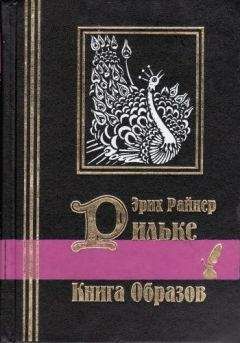Живую тварь они ломают в щепы,
и топливом народы служат им.
Здесь люди поступают в услуженье,
унизившись в достоинстве своем,
их черепашья скорость — достиженье,
и непристойны их телодвиженья,
и, окрестив прогрессом униженье,
они гремят металлом и стеклом.
И будто мучит их обман жестокий,
себя они утратили давно,
и в золоте их гибели истоки,
они скудеют, множится оно…
Последняя отрада их — вино:
отравленные, пагубные соки
питают их звериные пороки…
Перевод Т. Сильман
Там люди, расцветая бледным цветом,
дивятся при смерти, как мир тяжел.
Порода их нежна по всем приметам,
но каждый в темноте перед рассветом
улыбку там бы судорогой счел.
Вещами закабалены давно,
они забыли все свои надежды,
и на глазах ветшают их одежды,
щекам их рано блекнуть суждено.
Толпа теснит и травит их упорно,
пощады слабым не дождаться там,-
и только псы бездомные покорно
идут порой за ними по пятам.
Их плоть со всеми пытками знакома,
клянет их то и дело бой часов,
в привычном страхе ждут они приема,
слоняясь у больничных корпусов.
Там смерть. Не та, что ласкою влюбленной
чарует в детстве всех за годом год,-
чужая, маленькая смерть их ждет.
А собственная — кислой и зеленой
останется, как недозрелый плод.
Перевод В. Микушевича
Красуются по-прежнему палаты,
как птицы, что пронзительно кричат,
расцветкой перьев пристыдив закаты.
Пусть многие пока еще богаты,
теперь богатый не богат.
Куда ему до древних скотоводов!
Старейшины пастушеских народов,
бывало, степь стадами покрывали,
и, словно в облаках, тонули дали.
Тьма нависала пологом над степью,
смолкали повеленья в час ночной.
Чужому покорясь великолепью,
равнина вдруг меняла облик свой.
Кругом горбы верблюжьи горной цепью
вздымались, освещенные луной.
И даже на десятый день потом
окрестность пахла дымом и скотом,-
скотом тяжелый теплый ветер пах.
И, как вино на свадебных пирах,
не уставая до рассвета литься,
играло молоко в сосках ослицы.
Как тут не вспомнить и о бедуинах,
которые в пустынях кочевали,
на войлоке потертом ночевали…
Сам в рубище, любимый конь в рубинах.
Был прежде князь богаче во сто крат.
Он золото надменно презирал.
Любил он ладан, амбру и сандал,
предпочитая блеску аромат.
Как бог, был белый царь востока чтим,
мир тяготила власть его земная;
а он лежал ничком, тоской томим,
рыдал на пыльных плитах, твердо зная,
что никогда врата святые рая
не распахнутся перед ним.
Судовладелец покупал полотна
у живописцев прямо в мастерских,
такие, чтобы жизнь мечтой бесплотной
покорно меркла рядом с блеском их.
Плащ, словно город, на плечи взвалив,
он был, как лист, среди червонных нив,
висок его седой дышал заботно.
Вот чье богатство было необъятно,
обременили жизнь собой они.
Того, что миновало безвозвратно,
мы у тебя не требуем обратно —
ты только бедность бедную верни.
Перевод В. Микушевича
От века и навек всего лишенный,
отверженец, ты — камень без гнезда.
Ты — неприкаянный, ты — прокаженный,
с трещоткой обходящий города.
Как ветер, обездоленный и сирый,
своей ты не прикроешь наготы
и потому с роскошною порфирой
готов сравнить обноски сироты.
Ты, как зародыш в чреве, слаб и плох.
(Зародыш еле дышит в то мгновенье,
когда с тоской сжимаются колени,
скрывая новой жизни первый вздох.)
Ты беден, как весенний дождь блаженный,
который с кровель городских течет;
как помысел того, кто без вселенной
в тюрьме годам и дням теряет счет;
как тот больной, что счастлив неизменно,
перевернувшись на бок; как растенье
у самых шпал цветущее в смятенье…
Ты беден, беден, как ладонь в слезах.
Собака дохнет. Замерзает птица.
Ты бесприютнее вдвойне, втройне.
Зверь шевельнуться в западне боится.
Забытый, рад бы в угол он забиться.
Но ты беднее зверя в западне.
Живущие в ночлежках ради бога —
не мельницы, а только жернова,
но смелют и они муки немного.
Один лишь ты живешь едва-едва.
От века и навек всего лишенный,
лицо свое ты прячешь. Ты — ничей,
как роза нищеты, взращенный,
блеск золота, преображенный
в сиянье солнечных лучей.
От всей вселенной отрешенный,
тяжел ты слишком для других.
Ты воешь в бурю. Ты хрипишь от жажды,
звучишь, как арфа. Разобьется каждый,
коснувшись ненароком струн таких.
Перевод В. Микушевича
Из сборника «КНИГА ОБРАЗОВ»
Кто б ни был ты, но вечером уйди
из комнаты, приюта тесноты;
на даль пространств за домом погляди,
кто б ни был ты.
И взглядом утомленным отдели —
прикован долго был к порогу он —
то дерево, что высится вдали,
и небо для него возьми как фон.
Ты создал мир. Великий и простой.
Как слово, что молчаньем рождено.
Но вот тебе познать его дано,
и в этот миг ты взор потупишь свой…
Перевод Т. Сильман
Лесом запахло опять.
И жаворонки в выси уносят
небо, которое так надавило нам тело.
Виднелся, правда, сквозь сучья день
опустелый…
Но после долгих, как ливни, полудней,
золотясь, пробегают по саду
солнечные минуты,
от которых спасаются вдоль по фасаду,
как раны, разомкнуты
окна и крыльями бьют в испуге.
Потом все стихнет. Даже дождь ходит тише
по темнеющему отливу мостовой.
Ежатся шумы, уходят они с головой
в блесткие почки, как под крыши.
Перевод С. Петрова
(Из стихотворений
к шестидесятилетию Ганса Тома)
Рыцарь в доспехах из черной брони
в сияющий мир летит.
А в мире есть все: и друзья, и враги,
и милые девы, и майские дни,
и Грааль, и гора, и пиры, и огни,
и статуя бога, куда ни взгляни,
на всех углах стоит.
Но под панцирем рыцаря дремлет,
под жесткой кольчугой жмется
и хмурится смерть. И он внемлет
словам: Пусть клинок взметнется
над изгородью железной,
неся мне освобожденье,
чужой клинок над бездной…
Тоска меня донимает
от долгого заточенья,-
прочь из каморки тесной!
Пусть смерть поет и играет
в свое воскресенье.
Перевод Т. Сильман
(Из стихотворений к шестидесятилетию Ганса Тома)
Рыцарь, закованный в черную сталь,
скачет в ревущем кругу.
Вся жизнь — карусель: и день, и даль,
и друг, и враг, и пир, и печаль,
любовь, и лето, и лес, и Грааль,
и каждая улица — Божья скрижаль,
сам Бог — на каждом шагу.
Кто же панцирь черный неволит,
гнетет кольчуга стальная? -
Там смерть томится, и молит, и молит,
чужой клинок заклиная:
— Взвейся! Ты должен взвиться!
Ударь, чтоб сталь зазвенела!
Чтоб рухнула эта темница,
где я так устала
томить согбенное тело,-
чтоб я смогла распрямиться,
плясала и пела.
Перевод В. Леванского
Мой рыцарь юный предан мне
почти как древний стих.
Приходит он, как по весне
вихрь налетает в тишине,
уходит, как в голубизне
звон колокольный в стороне,
где свет преображен.
С глухой тоской наедине
слезу в прохладном полотне
ты прячешь: плач твой тих.
Мой рыцарь юный верен мне,
и он вооружен.
Улыбкою при ясном дне
сияет он, и в белизне
слоновой кости, в тонком сне
его черты, как свет в окне
морозном, жемчуг на стене
и при луне
страницы книг твоих.
Перевод В. Микушевича