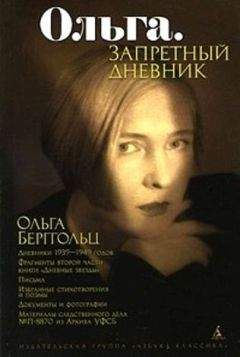Никто из нас не думает сейчас о своих, блокадных трудностях; мы живем так, как будто бы нет расстояния между Ленинградом и Сталинградом, как будто бы Нева и Терек текут рядом.
Мы живем, исполненные единой жаждой – всем, чем можно, помочь стране. И, несмотря ни на что, мы живем уверенностью, что Россия выстоит, что мы остановим повсюду захватчиков и даже погоним их вон из пределов нашего отечества. И мы из своего кольца, из осады громко говорим всем защитникам России: товарищи, крепитесь, бейте немцев, остановите, задержите их – это можно, можно, клянемся вам ленинградским сентябрем сорок первого года!
Немыслимо трудные дни переживаем сейчас мы все…
Печаль войны все тяжелей, все глубже.
Все горестней в моем родном краю…
Бывает, спросишь собственную душу:
– Ну, как ты, что? –
И слышишь: – Устаю… –
Но не вини за горькое признанье
души своей – и не смущайся, нет!
Она такое приняла страданье
за этот год, что хватит на сто лет
Такое испытанье ей досталось,
что, будь она не русскою душой, –
ее давно бы насмерть искромсало
отчаяньем, неверием, тоской…
Но только вспомни – вспомни сорок первый:
свирепо, страшно двигался фашист,
а разве – хоть на миг – ослабла вера
не на словах, а в глубине души?
Нет! Боль и стыд нежданных поражений
твоя душа сполна перенесла
и на путях печальных отступлений
невиданную твердость обрела.
…И вот – опять…
О, сводки с юга утром!
Как будто бы клещами сердце рвут…
Почти с молитвой смотришь в репродуктор:
– Скажи, что Грозного не отдадут!
Скажи, скажи, что снова стала нашей
Кубань, Ростов и пламенный Донбасс!
Скажи, что англичане от Ламанша
рванулись на Германию сейчас! –
Но, как полынью, горем сводки дышат.
Встань и скажи себе, с трудом дыша:
– Ты, может быть, еще не то услышишь
и все должна перенести, душа.
Ты устаешь? Ты вся в рубцах и ранах?
Все так! Но вот сейчас, наедине,
не людям – мне клянись, что не устанешь,
пока твое Отечество в огне.
Ты русская – дыханьем, кровью, думой.
В тебе соединились не вчера
мужицкое терпенье Аввакума
и царская неистовость Петра.
Так не желай и не проси пощады
и все прими, что будет, не забыв
ни зимнего терзанья Ленинграда,
ни горькой севастопольской судьбы.
Такая, отграненная упорством,
твоя душа нужна твоей земле…
Единоборство?
Пусть единоборство!
Мужайся, стой, крепись и – одолей!
И еще я прочту стихотворение о русской девушке Ольге Селезневой, угнанной немцами в Германию…
Я хочу говорить с тобою
о тяжелой нашей вине,
так, чтоб больше не знать покоя
ни тебе, товарищ, ни мне.
Я хочу говорить недолго:
мне мерещится все больней
Ольга, русская девушка Ольга…
Ты, наверное, знаешь о ней.
На немецкой земле на проклятой
в подлом рабстве томится она.
Это наша вина, солдаты,
это наша с вами вина.
Точно образ моей отчизны,
иссеченной, усталой, больной,
вся – страдание, вся – укоризна, –
так встает она предо мной.
Ты ли пела, певучая? Ты ли
проходила, светлее луча?
Только слезы теперь застыли
в помутневших твоих очах.
Я гляжу на нее, немея,
но молчать уже не могу.
Что мы сделали? Как мы смели
пол-России отдать врагу?
Как мы смели ее оставить
на грабеж и позор – одну?!
Нет, товарищ, молчи о славе,
если сестры твои в плену.
Я затем говорю с тобою
о тяжелой такой вине,
чтоб не знать ни минуты покоя
ни тебе, товарищ, ни мне.
Чтобы стыдно было и больно,
чтоб забыть о себе – пока
плачет русская девушка Ольга
у германского кулака.
20 сентября 1942
Дорогие товарищи,
послезавтра мы будем встречать новый, тысяча девятьсот сорок третий год.
Второй Новый год встречаем мы в блокаде.
Воспоминание о той, прошлогодней встрече, то есть о ленинградском декабре сорок первого года, это воспоминание еще так жгуче болит, что к нему тяжело и страшно прикасаться. Не надо же сегодня вспоминать сумрачные подробности тех дней. Вспомним, товарищи, только одну подробность: вспомним, что мы, несмотря ни на что, и тот Новый год встречали с поднятой головой, не хныча и не ноя и, главное, ни на минуту не теряя веры в нашу победу.
И вот прошел год. Не просто год времени, а год Отечественной войны, год тысяча девятьсот сорок второй, а для нас еще триста шестьдесят пять дней блокады.
Но совсем по-иному встречаем мы этот новый, 1943 год.
Наш быт, конечно, очень суров и беден, полон походных лишений и тягот. Но разве можно сравнить его с бытом декабря прошлого года? В декабре прошлого года на улицах наших замерло всякое движение, исчез в городе свет, иссякла вода, да… много чего исчезло и много чего появилось тогда на наших улицах…
А сейчас все-таки ходят трамваи – целых пять маршрутов! Сейчас поет и говорит радио, в два наши театра и в кино не пробьешься, целых три тысячи ленинградских квартир получили электрический свет. И, несмотря на то, что нашему городу за этот год нанесено много новых ран, весь облик его совсем иной, чем в прошлом году, – несравненно оживленнее, бодрее. Это живой, напряженно трудящийся и даже веселящийся в часы отдыха город, а ведь блокада-то все еще та же, что и в прошлом году, враг все так же близок, мы по-прежнему в кольце, в окружении.
Да, за год изнурительной блокады наш город и все мы вместе с ним не ослабли духом, не изверились, а стали сильнее и уверенней в себе.
С точки зрения наших врагов, произошла вещь абсолютно невероятная, невозможная, и причины этого они понять не в состоянии.
Еще 30 января 1942 года, то есть почти год назад, выступая перед своей шайкой, Гитлер заявил: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет самого себя». В новогоднем своем приказе, к 1 января 1942 года, в приказе по войскам, блокирующим Ленинград, он «благодарил своих солдат за создание невиданной в истории человечества блокады» и нагло заявлял, что не позднее, чем через три-четыре недели, «Ленинград, как спелое яблоко, упадет к нашим ногам…»
Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит в нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать – в конце концов сдадут город, – «Ленинград выжрет самого себя». Но мы не только выдержали все эти пытки – мы окрепли морально. Они не понимают, в чем же дело. Они не понимают, что мы, русские люди, мужавшие при Советской власти, люди, уважающие и любящие труд. За двадцать четыре года Советской власти мы накопили огромный опыт коллективной жизни и коллективного труда. Этот творческий коллективный труд называем мы строительством социализма. И весь наш народ, от детей до стариков, был одержим одной мечтой, был захвачен строительством социализма, и мы работали, отдавая ему все свои силы; да, мы ошибались, мы перегибали иногда, но как прекрасен и велик был этот наш труд и как в процессе его рос и хорошел человек! И вот в Ленинграде, в тяжелейших условиях блокады, под пытками фашистских палачей, русский, советский человек не утратил своих навыков и черт, а наоборот, эти черты, черты социалистического человека, труженика, стали еще четче, окрепли, как бы вычеканились на благородном металле.
Нередко приходится слышать жалобы: «Ох, ну и народ у нас стал – черствый, жадный, злой». Неправда. Это неправда! Конечно, не все выдержали испытание; конечно, есть люди очерствевшие, впавшие в мелкий, себялюбивый эгоизм, но их ничтожное меньшинство. Если б их было много, мы бы просто не выдержали, расчеты врага оправдались бы.
Взгляни себе в сердце, товарищ, посмотри попристальней на своих друзей и знакомых, и ты увидишь, что и ты и твои друзья за трудный год лишений и блокады стали сердечнее, человеколюбивее, проще. Вспомни хотя бы то, сколько раз ты сам делился последним своим куском с другим, и сколько раз делились с тобой, и как вовремя приходила эта дружеская поддержка.
Вот в январе этого года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:
– А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.
– Умираю, – согласилась Карякина. – И знаешь, Аннушка, чего мне хочется, так хочется – предсмертное желание, наверное, последнее: сахарного песочку мне хочется. Даже смешно, так ужасно хочется.