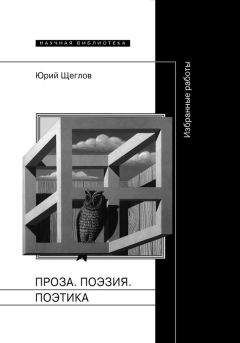Мы отметили выше, что герои Каверина обладают почти утопической свободой от сил принуждения и индоктринации, действовавших в реальном советском обществе. Если бы они не были столь очевидно и органично связаны со своим временем, их нетрудно было бы обвинить в смертных грехах абсентеизма, аполитичности и т. п., что проработочные критики в разное время и не делали. При внимательном чтении можно заметить, как каверинским героям почти всегда удается избегать вовлечения в политическую злободневность и оставаться верными своему личному курсу, созвучному с высшим смыслом истории. Автор с большим искусством и тактом проводит своих героев через подводные рифы, с которыми сопряжена подобная стратегия в условиях сталинизма.
Если, например, говорить о 20-х годах, на которые приходится начало сознательной жизни всех каверинских героев, то следует вспомнить, сколь двойственным и настороженным было отношение к этому неистовому периоду советской истории в стабилизированной культуре зрелого, «августианского» сталинизма, да и позже. Наряду с романтикой комсомольской юности, еще свежа была память и о левацких перегибах в быту, и о крайних социальных экспериментах, и о вульгарном догматизме Пролеткульта, и о многих других удивительных чертах революционной эпохи, впоследствии не раз ошельмованных официальной историографией. Если писатель более позднего времени желал в какой-то мере отразить реальные пестроту и своеобразие 20-х, ему следовало действовать осторожно. К прославлению героики должна была примешиваться если не прямая критика, то, как минимум, юмористическая интонация, с какой взрослые вспоминают о милых дурачествах молодых лет. Но такая позиция была потенциально поливалентной и богатой оттенками. Подтрунивание над раскритикованными и преодоленными перегибами легко экстраполировалось на инвариантные признаки, свойственные – в разной форме и концентрации – советской действительности на всех ее этапах. С другой стороны, позволяя себе добродушно-фамильярный тон в отношении тех или иных фактов прошлого, писатель как бы демонстрировал через головы идеологических чиновников свою интимную причастность и верность яркому, спорному времени своей молодости.
Эта сложно нюансированная непочтительность к эксцессам ранних лет революции была взята на вооружение и автором «Двух капитанов». Показателен в этом плане хотя бы «суд над Евгением Онегиным», разыгрываемый воспитанниками интерната (по-видимому, 1925 год).
Затеянное в духе идеологически-проработочной молодежной культуры тех лет, мероприятие это не имеет успеха («На репетиции это было очень весело, а тут все невольно чувствовали, что ничего не выходит. <…> слово получил общественный обвинитель. <…> Это было уже совсем скучно…» – ДК, часть 3, гл. 2), что не мешает ему на правах характерной приметы времени остаться светлой лирической реминисценцией в последующей жизни героев: «Я вспомнила, как он судил Евгения Онегина и все время мрачно смотрел на меня…» «Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит Евгения Онегина в четвертой школе…» (из «взглядов в прошлое» Кати Татариновой: ДК, часть 6, гл. 1; часть 7, гл. 5).
В культурной сфере заметна независимость молодых героев романа от догм и авторитетов – как старых, так и новых. Ни буржуазно-интеллигентские, ни революционные ценности не ощущаются ими как преимущественно «свои», кровно близкие: выбор детерминируется лишь личным вкусом или случаем, но никак не классовой солидарностью.
Сын рабочего Саня находит скучными «Записки охотника», но довольно равнодушен и к пролетарской литературе, за что Катя, девочка из староинтеллигентской семьи, его укоряет: «Ей очень нравился “Цемент” Гладкова, и она ругала меня за то, что я еще не читал. <В подтверждение того, что любовь – ерунда, она> привела какой-то пример из Гладкова, и я согласился» (ДК, часть 3, гл. 3).
Катя читала Диккенса, книги о путешествиях и, видимо, весь гимназический набор приключенческой литературы, но вот имя Валерия Брюсова, хотя его строки и знакомы ей с детских лет, в ее памяти не удержалось: «Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими “на тонкой нити времени, протянутой в уме”» (ДК, часть 7, гл. 1).
Очутившись на Дворцовой площади, вполне уже взрослая Катя проявляет одинаковое незнакомство как с классическим, так и с советским значением этого места: «…великолепная пустынная площадь вдруг открылась перед нами – не очень большая, но просторная и какая-то сдержанная, не похожая на открытые площади Москвы. Очень обидно, но я не знала, что это за площадь, и Сане пришлось прочесть мне краткий урок русской истории с упоминанием 7 ноября 1917 года» (ДК, часть 6, гл. 10).
Видно, что герои живут в своем личном культурном пространстве, обходясь без поклонения кумирам какой бы то ни было окраски – и тем ценнее и весомее, по имплицитной логике романа, оказывается их безоговорочная и безотчетно-стихийная принадлежность именно новому, революционному этапу истории.
Своеобразные отношения складываются у каверинских героев с советской административно-идеологической средой и с ее официальным дискурсом. В реальной истории, как всем известно, последний неумолимо навязывался всему обществу, в то время как в романе он даже не дан прямо, а лишь проглядывает кое-где в виде изолированных намеков и следов. Между личностью и истеблишментом намечается некое двуязычие, которое, возможно, где-то и было бы чревато напряженностью, но здесь разрешающееся юмором и компромиссом, к обоюдному удовольствию сторон. Противоречие, и так даваемое лишь слабым пунктиром, оказывается «неантагонистическим»; можно было бы говорить о ситуации Юрия Живаго или Григория Мелехова, но в почти до неузнаваемости смягченном и завуалированном виде, с фундаментально дружественными – и расходящимися лишь по частным вопросам стилевого оформления – отношениями между человеком независимого склада и сферой власти. В отличие от этих трагических героев персонажи Каверина уверенно шагают через советские десятилетия в амуниции своих персональных мифов и призваний, оберегающих неприкосновенность их внутреннего мира. Они легко отводят ассимилирующие поползновения, безотчетно редактируя, где и насколько можно, социальный заказ в духе своих персональных инвариантов. Со своей стороны, и власть, не вмешиваясь в строй души героев, довольствуется внешней редактурой их публичного имиджа, производит над ними определенные косметические операции, в основном для их же пользы – чтобы обеспечить им приемлемый вид в любых необходимых советских контекстах.
Поясним, как все это конкретно происходит. На протяжении романа можно не раз наблюдать, как жизнь подталкивает каверинских персонажей к тем или иным политически ангажированным, конъюнктурным акциям или жестам. На этот вызов извне герой реагирует слегка удивленно и инстинктивно уклоняется от его выполнения – по крайней мере в той форме, которая ожидается. Делает он это без специального акцента, редко отвергая предлагаемый шаг целиком, чаще приводя его, мягко и малозаметно, к приемлемому для себя виду.
Саня Григорьев планирует выпускное сочинение на заданную тему «Крестьянство в послеоктябрьской литературе», но бросает, увлекшись книгами о полюсе. «После этих книг мое сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным» (ДК, часть 2, гл. 7).
В уже упомянутом суде над Евгением Онегиным общественный обвинитель наводит на всех скуку рассуждениями вроде того, что «…Ленского убило помещичье и бюрократическое общество начала XIX века», тогда как друг Сани, будущий талантливый зоолог Валька, выступающий защитником, сводит все на свой любимый предмет – животный мир, и имеет успех:
Он начал с очень странного утверждения, что дуэли бывают и в животном мире, но никто не считает их убийствами. Потом он заговорил о грызунах и так увлекся, что стало просто непонятно, как он вернется к защите Евгения Онегина. Но Катя слушала его с интересом (ДК, часть 3, гл. 2).
Точно так же и Таня Власенкова в «Открытой книге» соскальзывает с порученного ей антирелигиозного задания на главный интерес своей жизни – науку:
Гурий достал мне работу в издательстве «Маяк». Для нового календаря нужно было найти подходящие антирелигиозные произведения в стихах и в прозе на каждый праздничный день, придумать имена и т. д. К сожалению, мне достался не весь календарь, а только конец февраля и половина апреля. Антирелигиозных произведений было мало, и я предложила заменить их естественно-научными, объясняющими некоторые явления природы – гром, молнию и тому подобное (ОК, часть 1, гл. 3).
Рассказывая, как ему поручили кружок по коллективному чтению газет, Саня Григорьев заключает газетные термины в кавычки, как цитаты171, и тут же находит кратчайший путь от этих вокабул чужого языка к более близким ему терминам летного дела: