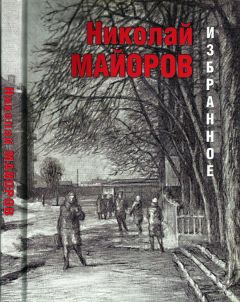1939
«Тогда была весна. И рядом…»
Тогда была весна. И рядом
С помойной ямой на дворе,
В простом строю равняясь на дом,
Мальчишки строились в каре
И бились честно. Полагалось
Бить в спину, в грудь, ещё — в бока.
Но на лицо не поднималась
Сухая детская рука.
А за рекою было поле.
Там, сбившись в кучу у траншей,
Солдаты били и кололи
Таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая,
Зачем туда сошлись полки:
Неужли взрослые играют,
Как мы, сходясь на кулаки?
Война прошла. Но нам осталась
Простая истина в удел,
Что у детей имелась жалость,
Которой взрослый не имел.
А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города,
И стала нужной кровь, которой
Мы так боялись в те года.
1940
Вся-то жизнь — сбитые пороги.
Из венков прославленных свита:
Тут и радость, тут же и вздроги,
А над всем — могильная плита.
Жизнь — минут человеческих проба,
И она, как капля, проста…
Эй, кто там?! Не делайте гроба,
Не готовьте кривого креста!
Но страшусь одного я немного,
Что сказала мне впалая грудь:
«Пятьдесят четвёртого порога
Не удастся нам перешагнуть!»
Не удастся… Ну так и что же —
Плач навеки в груди уснул…
Словно ветер весною, тоже
Мне по горлу в злобе полоснул.
Так пускай пролетело шестнадцать,
Бейте пальцы по струнам прямым!
Я, как прежде, буду смеяться
И горланить стихи громовым.[22]
20 мая 1935 г.
М. Соколов. Дама с птицей
«Мне нравится твой светлый подбородок…»
Мне нравится твой светлый подбородок
И как ты пудру на него кладёшь.
Мальчишку с девятнадцатого года
Ты театральным жестом обоймёшь.
А что ему твоё великолепье
И то, что мы зовём — сердечный пыл?
Дня не прошло, как вгорячах на кепи
Мальчишка шлем простреленный сменил.
Ты извини его — ведь он с дороги.
В ладони въелась дымная пыльца.
Не жди, пока последние ожоги
Сойдут с его скуластого лица.
1940
Что надо стекольщику, кроме пустых рам?
Со стульев вскакивают рыжие управдомы,
Когда старик проносит по дворам
Ящик, набитый стеклянным громом.
А мир почти ослеп от стекла.
И люди не знают о том, — вестимо!
Что мать Серафимом его нарекла
И с ящиком по свету шляться пустила.
На нём полосатые злые порты.
В кармане краюшка вчерашнего хлеба.
Мальчишки так разевают рты,
Что можно подумать — проглотят небо.
Они сбегаются с дач к нему.
Им ящик — забава. Но что с мальчишек?
Прослышал старик, что в каком-то Крыму
Люди заводят стеклянные крыши.
Он флигель оставил. Свистя на ходу,
Побрёл ноздреватой тропой краснотала…
Стекольщик не думал, что в этом году
В лондонских рамах стекла не хватало.
1940
Случайно звезды не украл дабы
Какой-нибудь праздный гуляка,
Старик никому не давал трубы,
Её стерегла собака.
Был важен в службе хозяйский пёс,
Под ним из войлока тёплый настил.
Какое дело кобелю до звёзд
И до прочих небесных светил?
А небом старик занимался сам —
Ночью, когда холодеет воздух,
Он подносил его ближе к глазам
И рылся в ещё не остывших звёздах.
Мальчишки понять не могли, засыпая:
Что ищет в небе старик-ворожей?
Должно быть, ворота небесного рая,
А может быть, просто пропавших стрижей?
Он знал его лучше, чем тот квартал,
В котором живёт, занимая флигель.
Он звёзды, как годы, по пальцам считал —
О них он напишет умные книги.
А парень, на небо взглянув некстати,
Клялся, теребя у любимой ручонки,
Что завтра сошьёт он из неба платье
И подарит его глупой девчонке.
А девушке — что?
Ей приятна лесть.
Дышит парень табачным дымом.
Она готова ни пить, ни есть,
Только б на звёзды глядеть с любимым.
Старик не думал, что месяц спустя
В сыром убежище, где-то в подвале,
Куда его силой соседи прогнали,
Услышит, как глухо бомбы свистят.
…Рядом труба лежит без охраны:
Собаку убило осколком снаряда.
Тот парень погиб, говорят, под Седаном,
И девушке платья теперь не надо.
А небо — в плену у стальных ястребят,
Трамваи ищут, укрыться где бы…
О горе, старик, когда у тебя
Украли целую четверть неба!
1940
Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тётке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя
Всё то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.
1940
В такую ночь пройдохам снится хлеб,
Они встают, уходят в скверы раньше,
А жуликам мерещится всё, где б
Пристроиться к весёлой кастелянше.
Что им война, когда они забыли
Гостиницы, где сгнили этажи,
Где, если хочешь, с женщиной лежи,
А хочешь — человеку закажи
Подать вина, что родиной из Чили.
Что им теперь подзвёздные миры,
Тяжба пространств, кометы-величины,
Коль нет у них ни женщины, ни чина,
А есть лишь положенье вне игры.
В ушах — всё ливень, сутолока, гул,
И невдомёк им, запропавшим пешим,
Что дождь давно в ту сторону свернул,
Где люди под зонтами прячут плеши.
Есть тёплый шарф, цветные макинтоши,
Но не для тех, кто на бульваре наг,
Тем всё равно: французы или боши.
Что победителю с таких бродяг?
У них отнимут отдых,
а на кой
Им эта дрёма и чужой покой?
Их выгонят на улицы под плети,
Они простудятся и будут спать во рву.
Но разве можно у таких, как эти,
Отнять родное небо и траву?
Не надо им отечества и короля,
Они в глаза не видели газеты,
Живут подачками, как будто для
Одних пройдох вращается земля
И где-то гибнут смежные планеты!
1940
Б. Пророков. Лист из альбома
Это время
трудновато для пера.
В. Маяковский
Есть в голосе моём звучание металла.
Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым.
Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображён.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперёд, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень твёрд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжёл, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!
1940