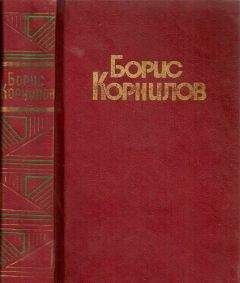<1931>
Я и вправо и влево кинусь,
я и так, я и сяк, но, любя,
отмечая и плюс и минус,
не могу обойти тебя.
Ты приходишь, моя забота
примечательная, ко мне,
с Металлического завода,
что на Выборгской стороне.
Ты влетаешь сплошною бурею,
песня вкатывает, звеня,
восемнадцатилетней дурью
пахнет в комнате у меня.
От напасти такой помилуй —
что за девочка: бровь дугой,
руки — крюки,
зовут Людмилой,
разумеется — дорогой.
Я от Волги свое до Волхова
по булыжникам на боку,
под налетами ветра колкого,
сердце волоком волоку.
Я любую повадку девичью
к своему притяну суду,
если надо, поставлю с мелочью
и с дешевкой в одном ряду.
Если девочка скажет:
— Боренька,
обожаю тебя… (смешок)
и тебя умоляю — скоренько
сочини про меня стишок,
опиши молодую жизнь мою,
извиняюсь…
Тогда, гляди,
откачу, околпачу, высмею,
разыграю на все лады.
Отметайся с возможной силой,
поживей шевели ногой…
Но не тот разговор с Людмилой,
тут совсем разговор другой…
Если снова
лиловый, ровный,
ядовитый нахлынет мрак —
по Москве,
Ленинграду
огромной,
тяжкой бомбой бабахнет враг…
Примет бедная Белоруссия
стратегические бои…
Выйду я, а со мною русая
и товарищи все мои.
Снова панскую спесь павлинью
потревожим, сомнем, согнем,
на смертельную первую линию
встанем первые под огнем.
Так как молоды, будем здорово
задаваться, давить фасон,
с нами наших товарищей прорва,
парабеллум и смит-вессон.
Может быть,
погуляю мало с ним, —
всем товарищам и тебе
я предсмертным
хрипеньем жалостным
заявлю о своей судьбе.
Рухну наземь — и роща липовая
закачается, как кольцо…
И в последний,
дрожа и всхлипывая,
погляжу на твое лицо.
<1931>
Вы ушли, как говорится,
в мир иной…
В. В. Маяковский
1
Локти в стороны, боком, натужась,
задыхаясь от гонора, вы
пробивались сквозь тихий ужас
бестолковой любви и жратвы.
Било горем, тоской глушило
и с годами несло на слом,
но под кожей крест-накрест жила
вас вязала морским узлом.
Люди падали наземь от хохота,
от метафор не в бровь, а в глаз,
и огромная желтая кофта —
ваше знамя — покрыла вас.
Сволочь разную гробивший заживо,
вы летели — ваш тяжек след,
но вначале для знамени вашего
вы не тот подобрали цвет.
После той смехотворной кофты
поднимаете к небу вы
знамя Нарвской заставы и Охты,
знамя Сормова и Москвы.
И, покрытая вашим голосом,
громыхая, дымя, пыля,
под заводами и под колосом
молодая встает земля.
2
Как на белогвардейца — разом,
без осечки, без «руки вверх»,
вы на сердце свое, на разум
поднимаете револьвер.
И подводной скалою быта
нам на долгое горе, на зло,
к черту, вдребезги вся разбита
ваша лодка и ваше весло.
И отходите в потусторонний,
вы на тот отбываете свет —
провожает вас грай вороний,
желтоватого знамени цвет.
Но с открытыми головами
мы стоим —
костенеет рука,
опускаются также над вами
и багровые наши шелка.
Мы читаем прощальную грамоту,
глушим злобу мы в сердце своем,
дезертиру и эмигранту
почесть страшную воздаем.
Он лежит, разодет и вымыт,
оркестровый встает тарарам…
Жаль, что мертвые сраму не имут,
что не имет он собственный срам.
3
Время для разговоров косвенных,
и они не мешают порой:
вот приходит ваш бедный родственник
за наследством — французский король.
Вот, легонечко взятый в розги,
в переделку — то в жар, то в лед —
исторический барин <…>
крокодиловы слезы льет.
До чего нечисты и лживы —
рвет с души
в воротит всего —
что поделать?
А были бы живы,
почесали б того и сего…
Кем на то разрешение выдано?
Я надеюсь, что видно вам,
и с того даже света видно
этот — вам посвященный — срам.
Но с открытыми головами
мы стоим —
костенеет рука,
опускаются навзничь над вами
все багровые наши шелка.
Тишь почетного караула
выразительна и строга —
так молчат вороненые дула,
обращенные на врага.
И, прощаясь и провожая
вас во веки веков на покой,
к небу поднята слава большая —
ваша слава —
нашей рукой.
<1931>
«Ты как рыба выплываешь с этого…»
Ты как рыба выплываешь с этого
прошлогоднего глухого дна,
за твоею кофтой маркизетовой
только скука затхлая одна.
Ты опять, моя супруга, кружишься, —
золотая белка,
колесо, —
и опять застыло, словно лужица,
неприятное твое лицо.
Этой ночью,
что упала замертво,
голубая — трупа голубей, —
ни лица, ни с алыми губами рта,
ничего не помню, хоть убей…
Я опять живу
и дело делаю —
наплевать, что по судьбе такой
просвистал
и проворонил белую,
мутный сон,
сомнительный покой…
Ты ушла,
тебя теперь не вижу я,
только песня плавает, пыля, —
для твоей ноги
да будет, рыжая,
легким пухом
рыхлая земля.
У меня не то —
за мной заметана
на земле побывка и гульба,
а по следу высыпала — вот она —
рога песен,
вылазка,
пальба…
Мы не те неловкие бездельники,
невысок чей сиплый голосок, —
снова четверги и понедельники
под ноги летят наискосок,
стынут пули,
пулемет, тиктикая,
задыхается — ему невмочь, —
на поля карабкается тихая,
притворяется, подлюга ночь.
Мне ли помнить эту, рыжеватую,
молодую, в розовом соку,
те года,
под стеганою ватою
залежавшиеся на боку?
Не моя печаль —
путями скорыми
я по жизни козырем летел…
И когда меня,
играя шпорами,
поведет поручик на расстрел, —
я припомню детство, одиночество,
погляжу на ободок луны
и забуду вовсе имя, отчество
той белесой, как луна, жены.
<1931>
Открытое письмо моим приятелям
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
А. С. Пушкин
1
Мне дорожка в молодость
издавна знакома:
тут смешок,
тут выпивка,
но в конце концов —
все мои приятели —
всё бюро райкома —
Лешка Егоров,
Мишка Кузнецов,
комсомольцы Сормова, —
ребята —
иже с ними.
Я — такой же аховый —
парень-вырви-гвоздь…
Точка —
снова вижу вас
глазами косыми
через пятилетье, большое насквозь.
Ох, давно не виделись,
чертовы куклы, мы,
посидеть бы вместе,
покурить махры,
вспомнить, между прочим,
что были мы пухлыми
мальчиками-с-пальчиками —
не хухры-мухры.
В голос песня пели,
каблуками стукали,
только от мороза на щеке слеза.
Васька Молчанов —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу разá.
Как писали раньше:
так-то вот и так-то…
живу, поживаю —
как на небеси…
Повстречал хорошенькую —
полюбил де-факто,
только не де-юре — боже упаси.
2
Утренняя изморозь —
плохая погода,
через пень-колоду, в опорках живем,
снова дует ветер двадцатого года —
батальоны ЧОНа
стоят под ружьем.
А в лесу берлоги,
мохнатые ели,
чертовы болота,
на дыре — дыра,
и лесные до смерти бандиты надоели,
потому бандитам помирать пора.
Осенью поляны
все зарею вышиты,
ЧОНовский разведчик
выполз, глядит…
Ишь ты,
поди ж ты,
что же говоришь ты —
ты ль меня,
я ль тебя,
молодой бандит.
Это наша молодость —
школа комсомола,
где не разучивают слова: «боюсь»,
и зовут чужбиною
Царские Села,
и зовут отечеством
Советский Союз.
Точка —
ночью звезды
тлеют, как угли,
с ЧОНа отечество
идет, как с туза…
Васька Молчанов —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу разá.
3
Вы на партработе —
тяжелое дело
брать за манишку бредущих наугад,
как щенков натаскивать,
чтобы завертело
в грохоте ударных
и сквозных бригад.
Я сижу и думаю —
мальчики что надо,
каждый знает дело,
не прет на авось, —
«Молодость и дружба» — сквозная бригада
через пятилетье, большое насквозь.
4
Предположим вызов.
Военное времечко —
встанут на границах особые полки.
Офицеру в темечко
влипнет, словно семечко,
разрывная пуля из нашей руки.
Все возьмем нахрапом —
разорвись и тресни,
генерал задрипанный, замри на скаку…
Может, так и будет,
как поется в песне:
«Были два товарища
в одном они полку…»
5
Слова-ребятишки
падают, как шишки, —
все мы дело делаем,
как и до сих пор;
думку о разлуке вытрави и выжги,
дело — наша встреча,
веселый разговор.
Мы повсюду вместе —
мальчики что надо,
будьте покойнички,
каждый — вырви-гвоздь…
«Молодость и дружба» — сквозная бригада
через пятилетье, большое насквозь.
Всё на плечи подняли
и в работу взяли,
с дружбы и молодости
ходим, как с туза…
Милые приятели —
вы ли не друзья ли?
Хоть бы написали товарищу разá.
1931