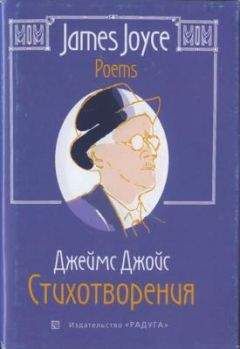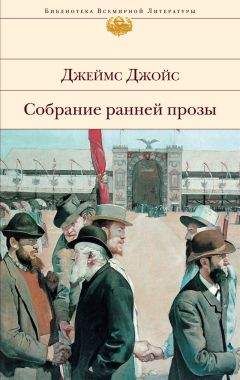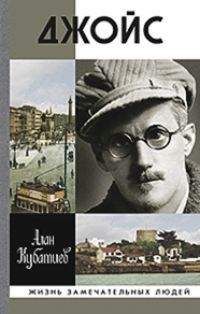THREE QUARKS FOR MASTER MARK
Three quarks for Muster Mark!
Sure he hasn't got much of a bark
And sure any he has it's all beside the mark.
But O, Wreneagle Almighty, wouldn't un be a sky of a lark
To see that old buzzurd whooping about for uns shirt
in the dark
And he hunting round for uns speckled trousers around
by Palmerstown Park?
Hohohoho, moulty Mark!
You're the rummest old rooster ever flopped out
of a Noah's ark
And you think you're cock of the wark.
Fowls, up! Tristy's the spry young spark
That'll tread her and wed her and bed her and red her
Without ever winking the tail of a feather
And that's how that chap's going to make his money
and mark!
ТРИ КВАРКА ДЛЯ МАСТЕРА МАРКА
«Эй, три кварка для мастера Марка!» —
Верно, выглядит он не особенно ярко,
И повадки его, как у сына кухарки,
Но Всептичий Господь и ему шлет в утеху подарки.
Глянь на старого дурня, что в тлеющем свете огарка,
Без портков и рубахи бредет в Палмерстоунском
парке,
О-хо-хо, выпьем, что ли, по чарке,
О пропойнейший из забулдыг, кто когда-либо выпал
из Ноевой Барки.
Хвост раздув, как бойцовый петух в зоопарке,
Брызжа искрами юности, как в кочегарке,
Он кричит: «Просыпайтесь, цесарки,
Разложу вас, ублажу вас, орошу вас — и всем
будет жарко!»
Вот как этот проныра растит капитал, не теряя своей
высшей марки.
II (пер. А. Казарновский, 1980-е гг.)
Сумерки.
Закат догорел.
Скоро взойдет луна.
Бледно-зеленый свет фонарей.
Музыка из окна.
Женские пальцы.
Седой рояль.
Клавиш точеных ряд.
Радость, страдание и печаль —
Теплой волною — в сад.
Полные тайной боли глаза.
Тканей голубизна.
В бледно-зеленые небеса
Тихо идет луна.
II (пер. Г. Шульпяков, 2000)
Вечерний сумрак — аметист —
Уходит в синеву.
И фонаря зеленый дым
Стекает сквозь листву.
Рояль старинный зазвучит
Спокойно и легко.
Над клавиш желтой чередой
Склоняется лицо.
Ее движенья, мысли, взгляд
Блуждают.
Чистый лист исчезнет в темной синеве,
Как в море — аметист.
III (пер. А. Казарновский, 1988)
Повсюду — тьма. Повсюду — тишина.
Но где-то под беззвездным сводом ночи
Трепещет все пронзительней и звонче
Далекой арфы тонкая струна.
Она поет: «Любовь, ты посмотри,
Дома и вещи, люди и природа —
Все жаждет только одного: восхода.
Скорей ворота настежь отвори
Для ласточек зари.
Мы молимся тебе, Любовь! Внемли»;
И внемлет им Любовь в ночи безлунной.
Так пусть не затихает голос струнный
И там, в небесной огненной дали,
И здесь, в глуши земли.
IV (пер. А. Казарновский, 1980-е гг.)
Запад стих, потемнев.
Первой звезды восход.
Льется чей-то напев
Возле твоих ворот.
И шепчешь ты в тишине:
«О, кто там спешит ко мне?»
Полно, это не тот
Гость из далеких грез
В час, когда ночь цветет,
Песню тебе принес,
Печаль свою затая…
Любимая! Это — я!
XVIII (пер. А. Казарновский, 1980-е гг.)
Послушай эту сказку, Любовь моя:
Когда мужчину бросят
Его друзья,
Окажутся их клятвы
Легки, как пух,
И крадучись уходит
Последний друг,
Пусть женщина в пустыню
К нему придет,
Придет — и боль остынет,
И он поймет,
Что в мире все богатство —
Он и Она,
И — жить. И — губ касаться.
И — тишина.
XXXII (пер. А. Казарновский, 1980-е гг.)
Весь день лило. Но надо нам идти
В измученный дождями сад,
Где листья на дорожках памяти
Холмами рыжими лежат.
Скользят дорожки эти мокрые,
Ах, вот бы привели они
Туда, в ту даль, где снова мог бы я
Найти тебя… ту ночь… те дни…
XXXIII (пер. А. Казарновский, 1980-е гг.)
Ну что ж, давай пройдем опять
По мокрым, вымершим лесам,
И будем тихо вспоминать:
«А помнишь, здесь…»
«А помнишь, там…»
Но чур без слез! Любовь была,
Как мартовская синь, светла.
Тот пестрый жулик на сосне
Забарабанил по коре…
Мы одиноки в тишине.
Лишь ветры кружатся в игре.
И шорох листьев вдруг затих.
И осень похоронит их.
Напевы птичьи не слышны.
Уныло капает вода.
Еще раз — вон у той сосны
Обнимемся мы. Как тогда…
И все пройдет. И боль пройдет.
Уходит год. Уходит год.
XXXV (пер. А. Казарновский, 1988)
Я слышу шум воды,
Глухие стоны,
Призывы чаек
Над пустыней сонной
И ветра гул
Тревожно монотонный.
Проносится промозглый ветер
Воя.
Я слышу шум.
Шум бродит над водою
И день и ночь,
Не ведая покоя.
XXXVI (пер. Вяч. Вс. Иванов, 1988)
Я слышу: войско высаживается на острова.
Коней, покрытых пеною, плескание словно гром.
Надменные колесничие, вожжей касаясь едва,
В черных доспехах, стоя, поехали напролом.
Свои боевые кличи в ночи они прокричат.
Как заслышу вдали вихри хохота их,
застону я в спальне.
Мглу моих снов расколет их пламень слепящий.
Сквозь чад стучат, стучат по сердцу они,
как по наковальне.
Зелеными длинными волосами победно трясут.
Кругом тьма.
Вышли из моря с гоготом и — вдоль побережья —
во тьму.
Сердце мое, в отчаянье этом нет вовсе ума.
Любовь, любовь, любовь моя, я один без тебя,
почему?
XXXVI (пер. А. Казарновский, 1988)
Сюда идут войска. Грохочут колесницы,
Ржут кони, шерсть лоснится на груди.
А в черных латах, стоя позади,
Бичами хлещут грозные возницы.
Их хриплый смех и крики ликованья
В мой сон ударили, как молния во тьму.
Они стучат по сердцу моему,
Стучат по сердцу, как по наковальне.
Их волосы волной полощутся по ветру.
Они идут из волн, доспехами звеня.
О сердце! Как тебе отчаянья не выдать?
Любимая, зачем ты бросила меня?
XXXVI (пер. Е. Кругликова, 2001)
Я армию слышу, идущую по земле,
И грохот копыт лошадей, у которых в мыле бока:
Над ними застыли всадники в черной броне —
Надменные, с жесткой уздой и кнутами в руках.
В ночи раздается воинственный их призыв:
Дрожу я во сне, заслышав вдали их гортанный смех.
Слепящим огнем сновиденья мои спалив,
Мне сердце опять раздувают они, как мех.
Своими зелеными космами гордо тряся,
Выходят из моря они и по берегу мчат, крича.
Достанет ли мудрости сердцу понять,
что отчаиваться нельзя?
За что же я здесь один, о любовь, о любовь моя,
отвечай?
Из сборника «ПЕННИ ЗА ШТУКУ»