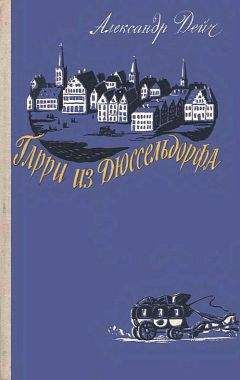Ознакомительная версия.
Я должен, впрочем, признаться вам, Мария, что если в Англии мне все становилось поперек горла — и кушанья и люди, — то причина отчасти заключалась во мне самом. Я привез с собою с родины добрый запас хандры и искал развлечения у народа, который сам способен избавляться от скуки не иначе, как потопив ее в водовороте политической или коммерческой деятельности. В совершенстве машин, которые применяются там везде и выполняют столько человеческих функций, для меня также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие из колес, стержней, цилиндров, с тысячью всякого рода крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся с какой-то страстной стремительностью. Не менее угнетали меня определенность, точность, размеренность и пунктуальность жизни англичан; ибо так же, как машины походят там на людей, так и люди кажутся там машинами. Да, дерево, железо и медь словно узурпировали там дух человека и от избытка одушевленности почти что обезумели, в то время как обездушенный человек, словно пустой призрак, совершенно машинально выполняет свои обычные дела, в определенный момент пожирает бифштексы, произносит парламентские речи, чистит ногти, влезает в дилижанс или вешается.
Вы легко поймете, что в этой стране тоска моя должна была возрастать со дня на день. Но ничто не сравнится с тем мрачным настроением, которое нашло на меня однажды вечером, когда я стоял на мосту Ватерлоо и смотрел вниз, в воды Темзы. Душа моя словно отражалась в воде и смотрела на меня оттуда, зияя всеми своими ранами… Самые грустные истории приходили мне тогда на память… Я думал о розе, которую постоянно поливали уксусом и потому она лишилась своего сладостного аромата и преждевременно увяла… Я думал о заблудившейся бабочке, которую заметил один естествоиспытатель, взобравшийся на Монблан, — он видел, как она одиноко порхала между ледяными глыбами… Я думал об одной ручной обезьянке, которая так подружилась с людьми, что с ними играла, с ними обедала; но вот однажды к обеду была подана на блюде зажаренная маленькая обезьянка, в которой она узнала свое собственное детище; быстро схватив его, она бросилась в лес и с тех пор никогда, уже больше не возвращалась к своим друзьям — людям… Ах, мне стало так грустно, что горячие капли градом полились из моих глаз. Они падали вниз, в Темзу, и плыли дальше, в огромное море, которое уже поглотило столько человеческих слез, совершенно не замечая этого.
В то самое мгновение странная музыка пробудила меня от мрачных грез; оглянувшись, я заметил на берегу кучку людей, столпившихся вокруг какого-то, очевидно забавного, зрелища. Подойдя ближе, я увидел семью артистов, в которую входили следующие четыре лица.
Во-первых, низенькая, коренастая женщина, одетая во все черное, с очень маленькой головой и очень толстым, выпяченным животом. На этом животе висел огромнейший барабан, в который она беспощадно колотила.
Во-вторых, карлик, одетый, наподобие французского маркиза старого времени, в расшитый кафтан; у него была большая напудренная голова; но все остальные части его тела были крайне невелики; приплясывая, он ударял по треугольнику.
В-третьих, молодая девушка лет пятнадцати, одетая в короткую, плотно облегающую тело кофту из голубого полосатого шелка и в широкие панталоны из такого же материала. Это была очаровательная, воздушная фигурка. Лицо ее отличалось античной красотой. Благородный, прямой нос, прелестно изогнутые губы, мечтательный, мягко закругленный подбородок, золотисто-солнечный цвет кожи, блестящие черные волосы, обвитые косами вокруг лба; так стояла она, прямая, строгая, с нахмуренным лицом, и смотрела на четвертого члена компании, который как раз проделывал в это время свои фокусы.
Это четвертое действующее лицо был ученый пес, в высшей степени многообещающий пудель; к величайшей радости английской публики, он только что сложил из рассыпанных перед ним деревянных букв имя «Веллингтон{787}» с весьма лестным эпитетом: «герой». Так как эта собака — что можно было заметить уже по ее умному виду — не принадлежала к числу английских животных, но вместе с тремя остальными товарищами явилась сюда из Франции, то сыны Альбиона радовались, что великий Веллингтон, по крайней мере среди французских собак, добился того признания, в котором ему так позорно отказывали все прочие французские создания.
В самом деле, вся эта компания состояла из французов, и карлик, отрекомендовавшийся мосье Тюрлютю, начал хвастливую речь на французском языке, сопровождая ее такой страстной жестикуляцией, что бедные англичане раскрыли свои рты и ноздри шире, чем обычно. Иногда, закончив длинный период, он кричал петухом, и это кукареку вместе с именами многочисленных императоров, королей и князей, которыми пестрела его речь, составляли единственное, что понимали его бедные слушатели. Этих императоров, королей и князей он прославлял как своих покровителей и друзей. Он уверял, что еще восьмилетним мальчиком имел продолжительную беседу с его величеством блаженной памяти Людовиком XVI, который и в позднейшие времена прибегал к его совету во всех важных случаях. От бурь революции он, подобно многим другим, спасся эмиграцией и лишь в эпоху Империи вернулся в свое любезное отечество, для того чтобы разделить славу великой нации. Благосклонностью Наполеона он, по его словам, никогда не пользовался; но зато его святейшество папа Пий VII чуть ли не боготворил его. Царь Александр угощал его конфетами, а принцесса Вильгельмина фон Киритц постоянно сажала его к себе на колени. Его светлость герцог Карл Брауншвейгский заставлял его нередко ездить верхом на своих собаках, а его величество король Людвиг Баварский читал ему свои августейшие стихотворения. Князья Рейс, Шлейц, Крейц, а также князья Шварцбург-Зондерсхаузен любили его, как брата, и всегда курили с ним из одной трубки. Да, сказал он, с самого детства он вращался только среди монархов, все теперешние государи некоторым образом выросли вместе с ним, и он относится к ним как к людям своего круга и облекается в траур всякий раз, когда кто-нибудь из них отходит в вечность. После этих торжественных слов он закричал петухом.
Мосье Тюрлютю был действительно одним из любопытнейших карликов, каких мне приходилось когда-либо видеть; его старое, сморщенное лицо представляло такой забавный контраст с детски тщедушным тельцем, и вся его персона столь же забавно контрастировала с теми штуками, которые он выкидывал. Он принимал, например, самые задорные позы и непомерно длинной рапирой пронзал воздух направо и налево, причем поминутно клялся своей честью, что вот эту кварту или эту терцию никто не в состоянии отпарировать, что, наоборот, его парады не может разбить ни один из смертных и что он вызовет любого из публики помериться с ним в благородном искусстве фехтования. Посвятив некоторое время этому представлению и не найдя никого, кто отважился бы вступить с ним в открытый поединок, карлик отвесил поклон с грацией, свойственной старой Франции, поблагодарил за выраженное ему одобрение и взял на себя смелость предложить высокочтимой публике зрелище, более необычайное, чем все то, что когда-либо вызывало изумление зрителей на территории Англии. «Взгляните! — воскликнул он, надев грязные лайковые перчатки и с почтительной вежливостью выводя на середину круга молодую девушку, принадлежавшую к группе комедиантов. — Эта особа — мадемуазель Лоранс, единственная дочь почтенной и благочестивой дамы, которую вы видите там с большим барабаном и которая до сих пор носит траур по случаю смерти своего нежно любимого супруга, величайшего чревовещателя Европы! Мадемуазель Лоранс будет теперь танцевать! Изумляйтесь танцу мадемуазель Лоранс!» Произнеся эти слова, он снова закричал петухом.
Девушка не обращала, по-видимому, ни малейшего внимания ни на эти речи, ни на любопытные взгляды зрителей; угрюмо-сосредоточенная, она ждала, чтобы карлик расстелил перед ней большой ковер и вновь заиграл на своем треугольнике под аккомпанемент большого барабана. Это была странная музыка, смесь неуклюжего брюзжания и сладострастного призыва, и я был захвачен этой патетической, шутовской, скорбно-наглой, причудливой мелодией, которая в то же время отличалась необычайной простотой. Но я тотчас же забыл о музыке, как только молодая девушка начала танцевать.
Танец и танцовщица с почти неудержимой силой приковали к себе все мое внимание. То не был классический танец, который еще встречается в наших больших балетах, где, как и в классической трагедии, господствуют одни только ходульные единства и прочие условности; тут не было ни тщательно вытанцовываемых александрийских стихов, ни декламаторских прыжков, ни этих антраша, символизирующих антитезу, ни благородной страсти, которая выделывает пируэты, вращаясь на одной ноге с такой стремительностью, что нельзя ничего разобрать, кроме неба и трико, ничего, кроме идеальности и лжи. По правде сказать, ничто мне так не противно, как балет в парижской Большой опере, где в наибольшей чистоте сохранилась традиция этого классического танца, несмотря на то, что в области прочих искусств — в поэзии, музыке и живописи — французы низвергли классическую систему. Но в хореографическом искусстве им трудно будет произвести подобного рода революцию; разве только они прибегнут здесь, как и в политической революции, к террору и начнут гильотинировать ноги у своих одеревеневших танцоров и танцовщиц старого режима. Мадемуазель Лоранс не была великой танцовщицей; ее носки не отличались особой гибкостью, ноги ее не были подготовлены для всевозможных вывертов, она ничего не смыслила в танцевальном искусстве, как ему обучает Вестрис{788}, но она танцевала так, как человеку предписывает танцевать природа; все ее существо было в гармонии с ее движениями; не только ее ноги, но все ее тело, ее лицо принимали участие в танце… Порой она становилась бледной, почти смертельно-бледной; ее глаза неестественно широко раскрывались, губы ее подергивались судорогой желания и боли, а ее черные волосы, полукруглыми прядями обрамлявшие ее виски, трепетали, как два воронова крыла. Это был совсем не классический танец, но и не романтический, в том смысле, в каком употребил бы это слово современный француз из школы Эжена Рандюэля. В этом танце не было ничего средневекового или венецианского, ничего похожего на пляску горбунов или на пляску смерти; не чувствовалось в нем ни лунного света, ни кровосмесительных страстей… Этот танец не заботился о том, чтобы забавлять внешним разнообразием движений; наоборот, внешние движения казались лишь словами какого-то особого языка и имели какой-то особый смысл. Что же говорил этот танец? Я не мог постигнуть это, несмотря на всю страстную выразительность его языка, и лишь смутно догадывался порой, что речь идет о чем-то мучительно страшном. Я, обычно столь легко схватывающий внутренний смысл всех явлений, не мог разрешить загадку этого танца, и если я вновь и вновь тщетно старался схватить его смысл, то виной тому, без сомнения, была музыка, которая, вероятно не без умысла, наводила меня на ложный след, лукаво сбивая с правильного пути и мешая мне. Треугольник господина Тюрлютю посмеивался иногда так коварно! А мамаша била в свой барабан так гневно, что ее лицо пылало под темным облаком траурной шляпы, как кровавое зарево северного сияния.
Ознакомительная версия.