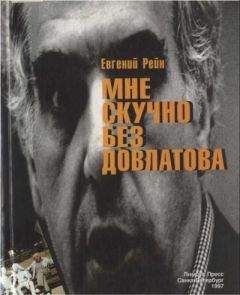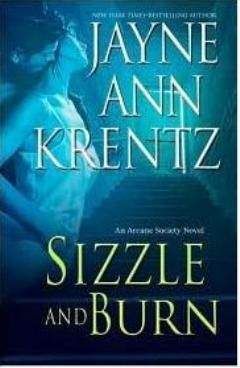— Господи, — сказал я ему, — мы бы тебе и так хорошо дали, но ты же нас за идиотов считаешь.
И вдруг мой режиссер сделал слабый проигрышный ход, он сказал про Вертинского.
— Ведь дал же тебе Вертинский двадцать копеек, и ты побежал ему дверь отворять.
Кеша понял, что выиграл. Он выпрямился. Боже, как надменно, какой непреклонной истиной блеснул его взор!
— Вертинский? — переспросил он. — Двадцать копеек? Да хоть бы и не одной. Ведь это барин… — он задумался, но ничего не придумал и снова с растяжкой повторил: — Баааарин, а вы…
И он кратко сказал, кто мы по его мнению.
24 мая 1965 года Бродскому исполнялось двадцать пять лет. Он находился в это время в ссылке в деревне Норенское Архангельской области. Вместе с Анатолием Найманом мы поехали к нему, чтобы отметить этот день.
Но по приезде Бродского на месте не застали. За самовольную отлучку он получил 15 суток и отсиживал их в КПЗ на станции Коноша, это километрах в двадцати от Норенской. Найман взял две бутылки водки и пошел в Коношу добывать Бродского хотя бы на один вечер. А я остался в Норенской накрывать стол и вообще координировать события, ибо местная почта каждый час передавала телеграммы и требовала к прямому проводу ввиду всяких чрезвычайных сообщений и поздравлений.
Часам к шести вечера Бродский и Найман наконец-то вернулись, был с ними еще и третий человек много старше нас, лет пятидесяти пяти. Он представился: «Черномордик». Потом я узнал его историю. Во время войны он был офицером СМЕРШа, участвовал в охране Потсдамской конференции. После разъезда Большой Тройки решил вместе с товарищами отдохнуть. С целью отдыха в огромный «хорьх» запрягли два десятка молодых немок, получились бурлаки на Эльбе. Немки катили «хорьх» по Потсдаму, а Черномордик с товарищами специально для них пели народную балладу про Стеньку Разина и персидскую княжну. И все, как уверял меня впоследствии Черномордик, были чрезвычайно довольны и не имели друг к другу никаких претензий. И вдруг эта история попала в какую-то английскую газету. Черномордика неохотно судили и дали десятку. После лагеря домой в Одессу он не вернулся. Я поинтересовался, почему?
— Понимаешь, мой младший брат в Одессе главный музыкальный редактор на телевидении. Как же я вернусь, я ведь старший брат.
Он был гордым человеком. Он стал начальником АХО Коношского района, заведовал банями и парикмахерскими, был там человек влиятельный и приметный и действенно покровительствовал Бродскому.
В Норенской Бродский снимал пол-избы у человека по фамилии Пестерев. У этого Пестерева была своя, тоже весьма поучительная история. Войну он провел в плену, но только не в немецком, а в финском. Более того, так как граница между Швецией и Финляндией была в те годы номинальной, да и вообще это было некое двуединое государство, то Пестерев провел четыре года на шведской стороне в качестве дворника, поддерживая традиционную скандинавскую чистоту. После победы он поспешил на Родину со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И вот мы вчетвером, невероятно голодные, наконец-то уселись за стол. А Пестерев, как человек воспитанный и церемонный, чудовищно загремел ведром на своей половине, напоминая о себе. Он был немедленно приглашен и появился среди нас в чистой рубашке и побритый только наполовину. Спешил к столу и не успел.
Мы выпили за здоровье юбиляра, причем я налил граненый стакан Пестереву ровнехонько до краев. Невероятно торжественно и со значением, не поднимая глаз, он выпил его до последней капли. А когда выпил и поставил на стол пустой стакан, то внимательно поглядел на нас, и, видимо, что-то открылось его внутреннему взору. Он даже отодвинул второй стакан, ибо овладевший им вопрос требовал немедленного разрешения.
— Ребята, вы какой нации будете? — спросил Пестерев.
— Мы будем еврейской нации, — ответил ему Черномордик.
Пестерев долго молчал, обдумывая такое невероятное положение. Глубочайшая сосредоточенность обозначилась на его лице. Пестерев что-то решал. Наконец, решил и выпил второй стакан.
— Ребята, — сказал он с отчаянием, даже с каким-то трагическим надрывом, — а я буду русской еврейской нации.
Иногда мне кажется, я понимаю, что он имел в виду.
Шестнадцать лет я ждал издания первого сборника своих стихотворений. Сначала книга томилась в Ленинградском отделении «Советского писателя». Затем — в Московском. Потом она пробилась в печать, но тут я опубликовался в альманахе «Метрополь», и книга по этому поводу из плана издательства вылетела.
Так я и пребывал в сорок семь лет поэтом, не издавшим еще ни одной книги.
Пока книга моя лежала в Московском издательстве, я раз или два в году навещал ее и пробивался в кабинет человека, который ведал там стихами. Это был колоритный тип. Основным качеством его была хитрость, которую он слегка маскировал беседами на всякие вполне практические и убогие темы, выдаваемые им с философским и даже с метафизическим оттенком.
Е. Рейн за рабочим столом.
Сам он был известен двумя или тремя бессмысленно длинными поэмами (никогда я не встречал человека, прочитавшего эти поэмы), за кои и удостоился благополучно Ленинской премии.
Эти визиты мои к нему никогда не превышали десяти минут и неизменно оканчивались мудрым советом.
— Рейн, не становись раньше времени профессионалом.
А мне уже настукало сорок семь годков.
Потом автор километровых поэм пошел на повышение, переселился в новый кабинет, — уже в особняке Союза писателей, и на некоторое время я лишился его благодушных и абсолютно никчемных советов.
Но книгу стихов я все-таки должен был издать.
Без этого было непонятно, что вообще делать на белом свете.
Никто не мог мне помочь, хотя несколько весьма известных поэтов изрядно хлопотали в этом направлении. Реальная власть была только у автора упоминавшихся нескончаемых поэм. И я направился в его новый кабинет. Он был куда шикарней прежнего, с предбанником, двумя секретаршами, селекторным устройством. Стоял жаркий, кажется, июльский день.
Хозяин кабинета встретил меня странновато, как бы давая понять, что я появился чрезвычайно вовремя, словно в ответ на его было скучновато в этом кабинете, то ли ему именно сейчас нужна была аудитория для очередного «метафизического» опуса.
— А, Рейн, рад тебя видеть, — начал он и тут же нажал на невидимую кнопку. Явилась пышнотелая секретарша. — Ко мне никого полчаса не пускать, и отключите селектор.
Я хотел что-нибудь сказать ему о шести положительных рецензиях на мою книгу, но он даже не дал мне открыть рта. Попросту он опередил меня.
— Рейн, — начал он, — я тут возил делегацию в Израиль. Две недели там были: Иерусалим, всякое такое, Голгофа, Вифлеем. Вот приехал и думаю. Хочу, понимаешь, внутренне убедиться.
Ходил я, понимаешь, к этой, как его, Стене Плача, и все сам наблюдал. И хочу я задать тебе один важный вопрос. Только ты не таись, отвечай в лоб и откровенно.
Какая-то интуиция подсказала мне, что от этой минуты многое в моем деле будет зависеть, ибо хозяин кабинета так высоко забрался, что может позволить себе легкое отступление от правил игры, а именно, наконец-то издать мою многострадальную книжечку.
— Я слушаю вас, — сказал я несколько напряженно.
— Ответь мне, Рейн, кто такие евреи? — и он замолчал, вопреки своей привычке отвратительно наслаивать пустопорожние периоды.
Что я мог ему сказать? Вон «Большая Советская Энциклопедия» стоит на полках у него за спиной, может быть он и в Брокгауза заглядывал. История, статистика — всем этим его не удивишь.
Я молчал. Пауза затягивалась. И вдруг я сказал ему, что евреи — народ Книги. И стал довольно путано объяснять, что такое в истории человечества эта книга, чаще именуемая Библией.
Слушал он меня минут семь-восемь, и это было поразительно, ибо он привык говорить сам, и более чем на краткую ответную реплику собеседники его не могли рассчитывать. Но, наконец, ему надоело. Мутноватый его, себе на уме взор затвердел, и он остановил меня движением ладони.
— А как с твоей-то книгой? Пора тебе, пора издаваться, ведь не мальчик уже.
Боже мой, все он прекрасно знал, сколько лет он сам продолжал этот идиотский спектакль! Внезапно он потянулся к телефону и набрал номер.
— Миша, зайди ко мне сейчас, назрело тут, понимаешь, одно дело.
И я понял, что он вызывает главного редактора того самого издательства. Мише было недалеко идти, и через несколько минут он появился в кабинете.
И тут я услышал то, чего никак не мог дождаться четырнадцать лет, то, от чего отводил меня этот же хозяин кабинета столь долгие годы.
— Миша, чего ты тянешь с Рейном? Вот он, седой человек. Со стихами все ясно. Судьба, понимаешь, фортуна не любит долгих ожиданий, у нее дел-то полно, потом ищи-свищи. Надо решать, Миша, затянули мы что-то с Рейном.