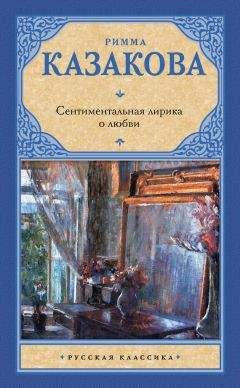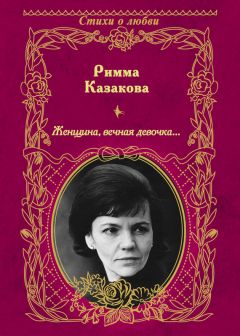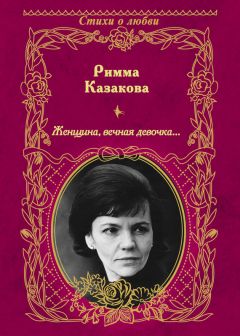я этим делом не сваляю.
А жизнь у каждого в руках.
Давайте честно к старту выйдем,
и кто там будет в дураках –
увидим, умники!
Увидим.
«Не зазнавайся, человек!..»
Не зазнавайся, человек!
Опять беда тебя постигла.
Долина гейзеров погибла.
Камчатка. Двадцать первый век.
Чума, холера… Так вчера
мир о себе напоминал нам.
А нынче – жуткая жара
сжигает адовым напалмом.
И, как непобедимый бич,
необратимо и недужно
любовь подстерегает «вич»:
как будто и любви не нужно!
Но ты из-под тяжёлых век
глядишь, как будто мир – лишь сцена.
Не зазнавайся, человек!
Держись того, что впрямь – бесценно.
Не проклинай свой трудный век,
где мать любила и качала,
не зазнавайся человек,
начни с нуля, начни сначала!
Сам этот древний мир качни,
как лодку, запустив в дорогу.
Начни! Хотя бы так: начни.
Как выпало однажды Богу…
«Дела не то чтобы плохи…»
Дела не то чтобы плохи,
но требуют участья…
Друзья мои, а вы глухи,
хотя глухи от счастья.
И наконец-то поняла,
как было вам со мною,
когда и я сама была
за тою же стеною…
По телефону воркотня
мне объясняет явно,
что вы не слышите меня,
хоть не чужая я вам.
И я смиряюсь, я смирюсь,
как будто все, как надо.
И вашим смехом я смеюсь,
успехам вашим рада.
А что же делать мне с моим
не то чтобы несчастьем?
Не сладила я нынче с ним,
пусть проходным, нечастым…
Но я воспряну, соберусь,
я отгорюю горе,
скажу как в книжке:
«Здравствуй, грусть!» –
и грусти дверь открою.
Моя печаль, моя беда,
водоворот – воронка!
Все смоет полая вода,
вся боль – до поворота.
И скоро поредеет мгла,
и, словно луч рассвета,
взойдет: «Печаль моя светла»,
придет: «Пройдет и это…»
«Была моложе и куда как строже!..»
Была моложе и куда как строже!
Да затупился яростный кинжал.
Люблю друзей,
но и врагов, похоже,
почти люблю, поскольку мне их жаль.
Друзья, ведь вы мои делили муки…
Враги, спасибо, что мой день не тих…
Так будьте все, живите, грейте руки
на горестях и радостях моих!
«Умер тот, кто обидел однажды…»
Умер тот, кто обидел однажды –
мимоходом, легко, на бегу,
и томило подобие жажды:
отплатить, не остаться в долгу.
Только смерть все акценты сместила.
Не могу я о нем не грустить.
Я жалею его, я простила!
…Надо было при жизни простить.
Этого хотела?
Этим замкнут круг?
Верность телу тела.
Верность губ и рук.
Не добрососедства –
плотью во плоти!
Ну а сердцу – сердца,
верность сердцу сердца?
Нет? Так и плати!
Верность вере в верность –
это ли грешно? –
на неоткровенность –
верить все равно!
Этого хотела
в шатком шалаше?
Верность телу тела…
Ну а делу – дела,
а души – душе?
Вот и покатилось,
и – на слом, на слом!
Вот и поплатилась.
Ну и поделом!
Жизнь – цена и мера.
Велика цена.
Но, коль что умела,
так платить сполна.
И плачу – не трушу.
Как забытый храм,
отворяю душу
душам и ветрам.
И, светло надеясь
в новый день весны
на святую ересь
этой новизны,
милые, земные, –
как судьбу свою, –
чьи-то позывные
сердцем узнаю.
«За тех, чей чуждый взгляд ожег…»
За тех, чей чуждый взгляд ожег
спесиво,
чтоб мой нашел, настиг, как шок, –
спасибо!
За безмятежность душ и глаз,
за силу
всего, что засветилось в нас,
спасибо.
За то, что больше, чем дано, спросила
с небес, прихлынувших в окно,
спасибо.
За тот огонь, что для огня
спасли вы, –
все, не любившие меня, –
спасибо!
Я по прошлому сужу,
что грядущее сокрыто…
А сегодня я сижу
у разбитого корыта.
Кто же, кто его разбил?
Как ни странно, как ни тошно,
тот, кто вроде бы любил
и во всё вникал дотошно.
Это трудно позабыть…
А когда чужими стали,
лучше всех он знал, как бить,
как ломать, он знал в деталях.
И друзья мои внесли
тоже лепту неплохую:
раскрошили, разнесли
и открыто, и втихую.
Растащили закрома…
И как будто подрядилась,
и сама я, и сама
над корытом потрудилась.
Но не век же слёзы лить:
что сломалось – то сломалось.
Без конца себя пилить –
не поможешь и на малость!
Лучше в муках и с трудом,
но упрямо, неустанно
помаленьку строить дом,
где взамен корыта – ванна.
И однажды, нежась в ней,
незлобливо и открыто
вспомнить в буднях новых дней
про разбитое корыто…
Не стараюсь, не спешу.
Быть хочу сама собою.
Может, всё же и решу
как с разбитой быть судьбою.
Всё оплачу, всех прощу,
потому что так любила,
что по-прежнему грущу
обо всём, что раньше было!
Помолчу. Себя пойму.
В конструктивном, трезвом духе
покаянно перейму
опыт пушкинской старухи.
Я богата – и бедна,
я отпета – и отмыта.
Я спокойна. Я одна
у разбитого корыта.
Все падает из рук:
карандаши, тарелки…
Остался близкий круг,
но дни и чувства мелки.
Привычка подвела:
в пределах жизни бренной
примеривать дела
и помыслы к Вселенной.
Она теперь мала,
ее масштаб – оковы,
она мечты свела
к задачке пустяковой.
И этот крест несем
мы, злясь, не соглашаясь.
И, словно яд, во всем –
растерянность и жалость.
Но смотрит строго друг:
пусть нет былого хора,
остался близкий круг,
основа и опора.
Остался близкий круг
для торжества науки:
всё падает из рук…
И всё вернется в руки!
Друзья мои!
Золото и серебро
в сравнении с ними –
всего лишь медяшки.
Друзья мои делают людям добро,
и вовсе не тяжек
им труд этот тяжкий.
И каждый
чужою бедою распят.
А спросишь: во имя чего? –
не ответят…
Они хорошо после этого спят,
и звезды их снам,
как в младенчестве,
светят…
«Полагаю, что я ничего не добьюсь…»
Полагаю, что я ничего не добьюсь,
что напрасны мечты и потуги.
Понимаю, что я не собьюсь, не сопьюсь,
как иные друзья и подруги.
И что будет последний отрезок пути
и спокойным, и благостным даже.
Что я много чего пожелаю найти,
и найду, и, наверное, буду в чести
у пролаз и у бдительной стражи.
Так о чем я скулю? Горький вздор, отвяжись!
Не терзай мою душу обидой,
что упущено время, проиграна жизнь,
что и тлеет, и тускнет, и гаснет, кажись,
в стороне уголек мой забытый.
Полагаю, и вправду здесь что-то не так.
Катастрофою кажется каждый пустяк,
и сама я в том, видно, виновна.
Пусть меня вразумит не мудрец, а простак,
с этим делом повязанный кровно.
Вот он мне и долбит, что напрасно боюсь:
на пути, где я птицей взъерошенной бьюсь,
мне роскошно жилось и любилось!
Я на этом пути ничего не добьюсь.
…Потому что всего я добилась.
Научиться бы жить налегке,
жить легко, без сомнений и риска,
налегке, от всего вдалеке,
что так больно и горестно близко.
Отвернусь, а потом обернусь:
что я бросила – с ядом упрёка?
Отвернусь, обернусь – и вернусь
к близким далям своим издалёка.
Там, куда бы ушла, – та же боль,
та, что будит, ведёт, убивает.
Та же боль, тот же яростный бой…
А без боли его не бывает.
Научиться ли жить налегке?
Где, в заветном каком уголке
та счастливая лёгкость таится?
Что такое на деле она:
полусонной души целина
или злая, свободная птица?!
Впрочем, мы и живём налегке
и в своей безразмерной тоске
неразумное сердце не раним.
Научились. Живем налегке.
Налегке: без синицы в руке
и с журавликом в небе бескрайнем.
В восторге онемевши,
взираю на экран:
красотки-гулливерши
из самых разных стран…
Теперь их не покинет
удача никогда.
У вешалки-богини
особая звезда.
Иных судьба метелит
в безрадостных деньках,
а девочки-модели –
при деле, при деньгах.
Вот я – другая просто,
другой задор и дар.
Я с высоты их роста –